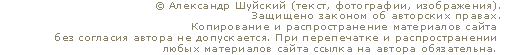к оглавлению
--»
Сказки пятого часа ночи
буковки
![]() Не по Дарвину же жить, говорю я тебе, а ты спрашиваешь - а как тогда, ведь никакой же парадигмы, никакой определенности, девочка на шаре давно внутри него, и каждый новый шаг - с усилием, нужно сохранять равновесие, нужно попирать стопой, нужно двигать мир, внутри которого идешь, на это уходят все силы, куда уж там смотреть на дорогу.
Не по Дарвину же жить, говорю я тебе, а ты спрашиваешь - а как тогда, ведь никакой же парадигмы, никакой определенности, девочка на шаре давно внутри него, и каждый новый шаг - с усилием, нужно сохранять равновесие, нужно попирать стопой, нужно двигать мир, внутри которого идешь, на это уходят все силы, куда уж там смотреть на дорогу.
![]() Как-нибудь приспособимся, говорю я тебе, в текст мы все уже прекрасно умеем превращаться, некоторые вовсе оборотнями стали - как полнолуние, так они в книжку. И веселятся там вовсю, а потом просыпаются утром, жмурятся сонно и на вопросы отвечают: кто? я? да я только что проснулся!
Как-нибудь приспособимся, говорю я тебе, в текст мы все уже прекрасно умеем превращаться, некоторые вовсе оборотнями стали - как полнолуние, так они в книжку. И веселятся там вовсю, а потом просыпаются утром, жмурятся сонно и на вопросы отвечают: кто? я? да я только что проснулся!
![]() Следующая остановка - человек дождя, говоришь ты, и почему бы нет, человеком дождя смоет текст, заберет в себя буковки, как в чернильницу, понесет по воде аки посуху и по суше аки водой, но про воду я писал уже много раз, я ее опасаюсь, воды этой, проточная вода - вода безумия, ни войти дважды, ни напиться, ни слова оставить, чтобы не унесла, сколько я уж писал вилами по воде, эта бумага не терпит, у нее терпения вообще нету, тут же съедает все, только круги расходятся.
Следующая остановка - человек дождя, говоришь ты, и почему бы нет, человеком дождя смоет текст, заберет в себя буковки, как в чернильницу, понесет по воде аки посуху и по суше аки водой, но про воду я писал уже много раз, я ее опасаюсь, воды этой, проточная вода - вода безумия, ни войти дважды, ни напиться, ни слова оставить, чтобы не унесла, сколько я уж писал вилами по воде, эта бумага не терпит, у нее терпения вообще нету, тут же съедает все, только круги расходятся.
![]() Я лучше стану человеком сна. А ты, когда станешь человеком дождя, приходи к моему окну по ночам.
Я лучше стану человеком сна. А ты, когда станешь человеком дождя, приходи к моему окну по ночам.
![]() Поговорим.
Поговорим.
назойливые
![]() Господи, забери меня отсюда навсегда.
Господи, забери меня отсюда навсегда.
![]() Вагон метро пахнет пивом и мусорным баком, меня трясет изнутри и снаружи, повизгивает, полязгивает. Лампочки такие тусклые, что единственный ребенок в вагоне светится своей белой пуховой шапочкой, как луна на темном небе. Напротив дремлет старик, вокруг него вьются две мухи. Тетка с краю переворачивает страницы какой-то марининой бордовым нарощенным ногтем. Я уже думаю, что можно закрыть глаза, притвориться спящим и тогда как-то доехать и уцелеть, но тут в вагон вползает оно и начинает бормотать скороговоркой вечное "гражданепассажирыдайвамбогздоровья..."
Вагон метро пахнет пивом и мусорным баком, меня трясет изнутри и снаружи, повизгивает, полязгивает. Лампочки такие тусклые, что единственный ребенок в вагоне светится своей белой пуховой шапочкой, как луна на темном небе. Напротив дремлет старик, вокруг него вьются две мухи. Тетка с краю переворачивает страницы какой-то марининой бордовым нарощенным ногтем. Я уже думаю, что можно закрыть глаза, притвориться спящим и тогда как-то доехать и уцелеть, но тут в вагон вползает оно и начинает бормотать скороговоркой вечное "гражданепассажирыдайвамбогздоровья..."
![]() Оно невыносимо грязно. Оно ползает, упираясь руками в плевки и пролитое пиво, поджав под себя абсолютно здоровые ноги, оно лоснится всей своей рябой физиономией, оно не в силах ни секунды удержать жалостливое выражение в хитрющих глазах. Оно ползет по вагону и заглядывает пассажирам в лица, требует: "Дай!" Невозможно даже помыслить соприкоснуться с этим существом, но девочка в белом пуху вокруг чистенького личика шепчет маме: "Мам, я дам ему денюшку, ему на костыли..."
Оно невыносимо грязно. Оно ползает, упираясь руками в плевки и пролитое пиво, поджав под себя абсолютно здоровые ноги, оно лоснится всей своей рябой физиономией, оно не в силах ни секунды удержать жалостливое выражение в хитрющих глазах. Оно ползет по вагону и заглядывает пассажирам в лица, требует: "Дай!" Невозможно даже помыслить соприкоснуться с этим существом, но девочка в белом пуху вокруг чистенького личика шепчет маме: "Мам, я дам ему денюшку, ему на костыли..."
![]() Я дергаюсь, хочу крикнуть - не давай! - но мама уже равнодушно кивнула, а девочка тянет белые пальчики, оно выхватывает из этих пальчиков бумажку, и я вижу, что пальчики становятся еще бледнее, девочка так и застывает с протянутой рукой, а оно облизывается и быстро уползает вперед по вагону, и тогда тетка с краю резко, как птица, на секунду вынимает свой длинный нос из-за книжки, поворачивается к девочке и тоже шепчет: "Дай!" - и девочкина рука падает, как плеть, щеки бледнеют, а рот приоткрывается в изумлении, она ничего не понимает, тетка облизывается, захлопывает книжку, встает и быстро-быстро уходит, старик напротив открывает один глаз, нагибается вперед, говорит дай, его мухи повисают на миг в воздухе а потом начинают кружиться над головой девочки шапочка больше не светится старик облизывается и быстро-быстро уходит в углу вдруг высыхает лужа пива и грязи собирается в плотный ком слизывает по дороге нарисованную фломастером свастику и две смятые жестянки ползет к маленьким девочкиным ботинкам девочка синеет закатывает глаза и начинает биться мать вскакивает трясет ее кричит "Маша, Маша" смотрит на меня с ненавистью хватает дочь в охапку и выскакивает под самый конец "осторожно, двери закрываются".
Я дергаюсь, хочу крикнуть - не давай! - но мама уже равнодушно кивнула, а девочка тянет белые пальчики, оно выхватывает из этих пальчиков бумажку, и я вижу, что пальчики становятся еще бледнее, девочка так и застывает с протянутой рукой, а оно облизывается и быстро уползает вперед по вагону, и тогда тетка с краю резко, как птица, на секунду вынимает свой длинный нос из-за книжки, поворачивается к девочке и тоже шепчет: "Дай!" - и девочкина рука падает, как плеть, щеки бледнеют, а рот приоткрывается в изумлении, она ничего не понимает, тетка облизывается, захлопывает книжку, встает и быстро-быстро уходит, старик напротив открывает один глаз, нагибается вперед, говорит дай, его мухи повисают на миг в воздухе а потом начинают кружиться над головой девочки шапочка больше не светится старик облизывается и быстро-быстро уходит в углу вдруг высыхает лужа пива и грязи собирается в плотный ком слизывает по дороге нарисованную фломастером свастику и две смятые жестянки ползет к маленьким девочкиным ботинкам девочка синеет закатывает глаза и начинает биться мать вскакивает трясет ее кричит "Маша, Маша" смотрит на меня с ненавистью хватает дочь в охапку и выскакивает под самый конец "осторожно, двери закрываются".
![]() Господи, забери меня отсюда навсегда.
Господи, забери меня отсюда навсегда.
кукла
![]() Откуда и как взялась она в этой квартире, старой квартире, всегда немножко сыроватой, всегда сильно неприбранной и как правило пустой, - не знала. Очнулась уже сидящей на подоконнике. Нелепо сидящей, руки-ноги врозь, без смысла, без дела. Только и развлечений, что смотреть в окно. На окне стекло, толстое и серое от грязи, но все видно - крыши напротив, зелень во дворе, голубей на карнизе. Красота! Целыми днями смотри и смотри. Голуби носятся друг за другом, кошки орут, жизнь бьет ключом, а ей того и надобно. Вытаращит глаза, уставится в окно - и так на целый день. Главное, успеть отвернуться и принять глупый вид, когда хозяйка придет.
Откуда и как взялась она в этой квартире, старой квартире, всегда немножко сыроватой, всегда сильно неприбранной и как правило пустой, - не знала. Очнулась уже сидящей на подоконнике. Нелепо сидящей, руки-ноги врозь, без смысла, без дела. Только и развлечений, что смотреть в окно. На окне стекло, толстое и серое от грязи, но все видно - крыши напротив, зелень во дворе, голубей на карнизе. Красота! Целыми днями смотри и смотри. Голуби носятся друг за другом, кошки орут, жизнь бьет ключом, а ей того и надобно. Вытаращит глаза, уставится в окно - и так на целый день. Главное, успеть отвернуться и принять глупый вид, когда хозяйка придет.
![]() А хозяйка приходила не так чтобы очень часто, иногда совсем среди ночи приходила, подходила к подоконнику, щелкала по козырьку тесной бейсболки - ну что, дура резиновая, как дела, а? Я, дура, напилась, сейчас кофе варить будем. Так и коротали вечер. Уютно, тепло было, пахло кофе и перегаром. Такие правильные запахи, домашние.
А хозяйка приходила не так чтобы очень часто, иногда совсем среди ночи приходила, подходила к подоконнику, щелкала по козырьку тесной бейсболки - ну что, дура резиновая, как дела, а? Я, дура, напилась, сейчас кофе варить будем. Так и коротали вечер. Уютно, тепло было, пахло кофе и перегаром. Такие правильные запахи, домашние.
![]() Но как-то хозяйка загуляла, и ночью дура осталась одна. Ночью в окне почти ничего нет, фонарь только в стекло лупит, ни голубей, ни кошек не видать. Вместо кошек пьяные орут. Хозяйки нет. Стало дуре зябко и скучно. И решилась она с подоконника слезть. Долго слезала - ноги-руки нелепые разъезжаются, норовят пойти во все стороны разом. Всю ночь на три шага потратила, весь день обратно залезала. К вечеру вернулась хозяйка - не в духе, трезвая, - но ничего не заметила.
Но как-то хозяйка загуляла, и ночью дура осталась одна. Ночью в окне почти ничего нет, фонарь только в стекло лупит, ни голубей, ни кошек не видать. Вместо кошек пьяные орут. Хозяйки нет. Стало дуре зябко и скучно. И решилась она с подоконника слезть. Долго слезала - ноги-руки нелепые разъезжаются, норовят пойти во все стороны разом. Всю ночь на три шага потратила, весь день обратно залезала. К вечеру вернулась хозяйка - не в духе, трезвая, - но ничего не заметила.
![]() Так оно и пошло. Как хозяйки дома нет - дура идет по квартире гулять. Так наловчилась - до телевизора однажды дошла. Дальше не успела, хотя был рядом с телевизором некий предмет, сильно ее манивший. Блестящий такой предмет. Хозяйка, перед тем, как из дома выйти, хоть десять минут, да простаивала перед этим предметом. Поворачивалась так и эдак. Приговаривала: красавица! умница! спортсменка! комсомолка! и тре-е-езвенница! Видно было, что ей нравилось крутиться перед предметом, что-то там в нем такое было распрекрасное донельзя, потому что в самую интересную вещь на свете - телевизор, - хозяйка плевалась с криками: "ублюдки! козлы! бляди!" - хотя жизни в этом телевизоре было раз в десять больше, чем за окном. Но тeлевизор хозяйка включала редко.
Так оно и пошло. Как хозяйки дома нет - дура идет по квартире гулять. Так наловчилась - до телевизора однажды дошла. Дальше не успела, хотя был рядом с телевизором некий предмет, сильно ее манивший. Блестящий такой предмет. Хозяйка, перед тем, как из дома выйти, хоть десять минут, да простаивала перед этим предметом. Поворачивалась так и эдак. Приговаривала: красавица! умница! спортсменка! комсомолка! и тре-е-езвенница! Видно было, что ей нравилось крутиться перед предметом, что-то там в нем такое было распрекрасное донельзя, потому что в самую интересную вещь на свете - телевизор, - хозяйка плевалась с криками: "ублюдки! козлы! бляди!" - хотя жизни в этом телевизоре было раз в десять больше, чем за окном. Но тeлевизор хозяйка включала редко.
![]() Может, через месяц, а, может, к концу осени только, как следует наловчившись ходить, добралась дура до вожделенного предмета. Предмет висел на стене, плоский и очень похожий на окно. Только в этом окне была не улица, а вся комната - ну не вся, а большая часть: изнанка телевизора, большой кусок дивана, почти весь шкаф, полки книжные. И еще там маячило что-то розовое, противное, с торчащими в стороны розовыми конечностями. Она придвинулась, чтобы рассмотреть страшилище - и страшилище двинулось на нее. У страшилища были огромные, подведенные черным плоские глаза на плоском лице, распяленный ярко-красной буквой "о" круглый рот и блеклые, ломкие, как пакля, волосы, торчащие из-под старой бейсболки. Дура подняла руку и взялась за козырек. Страшилище сделало то же самое. Дура сняла с головы бейсболку и, глядя на уроду в зеркале, отшвырнула ее прочь. Потом огляделась искательно, нашла тяжеленную пепельницу и со всей силы запустила в собственное отражение. Осколок попал ей в голову, что-то слабо зашипело, она без сил упала на пол - отвратительным лицом вниз - и перестала быть.
Может, через месяц, а, может, к концу осени только, как следует наловчившись ходить, добралась дура до вожделенного предмета. Предмет висел на стене, плоский и очень похожий на окно. Только в этом окне была не улица, а вся комната - ну не вся, а большая часть: изнанка телевизора, большой кусок дивана, почти весь шкаф, полки книжные. И еще там маячило что-то розовое, противное, с торчащими в стороны розовыми конечностями. Она придвинулась, чтобы рассмотреть страшилище - и страшилище двинулось на нее. У страшилища были огромные, подведенные черным плоские глаза на плоском лице, распяленный ярко-красной буквой "о" круглый рот и блеклые, ломкие, как пакля, волосы, торчащие из-под старой бейсболки. Дура подняла руку и взялась за козырек. Страшилище сделало то же самое. Дура сняла с головы бейсболку и, глядя на уроду в зеркале, отшвырнула ее прочь. Потом огляделась искательно, нашла тяжеленную пепельницу и со всей силы запустила в собственное отражение. Осколок попал ей в голову, что-то слабо зашипело, она без сил упала на пол - отвратительным лицом вниз - и перестала быть.
* * *
- Ты меня спаси от этой куклы, - нервно говорила хозяйка приятельнице. - Ты представляешь, она все время на подоконнике сидела, а тут прихожу домой - лежит на полу, кепка сорвана и зеркало разбито. У меня нехорошие предчувствия.
ангел
![]() Так вот и ходит он много лет, от деревни к деревне, из города в город, из одной столицы в другую. Везде ему рады, везде ему почет и слава, хоть и не берет он никакой платы, кроме ночлега и еды в дорогу. И темные глаза его всегда печальны, а углы рта опущены вниз.
Так вот и ходит он много лет, от деревни к деревне, из города в город, из одной столицы в другую. Везде ему рады, везде ему почет и слава, хоть и не берет он никакой платы, кроме ночлега и еды в дорогу. И темные глаза его всегда печальны, а углы рта опущены вниз.
![]() - Послушай, - говорит он, - я грезил и видел город. И город был как золото и в то же время стекло, потому что он был свет. Из света были его площади, твердого, как камень. Из света были его сады, и свет шелестел в них и мерцал, как листва. Ангелы населяли его, у них не было крыльев, их подхватывал и нес все тот же свет, куда они пожелают или куда велит Он. И свет был в то же время звук, он лился отовсюду, и звук был как прекраснейшая музыка, как трубы и скрипки, от этой музыки хотелось кричать и плакать, раскинув руки. И я был счастлив в этих грезах. Но однажды я проснулся в полутемном доме, надо мной с лампой стоял хозяин, позади него шумно дышало все его семейство, и голос его срывался, когда он спросил меня:
- Послушай, - говорит он, - я грезил и видел город. И город был как золото и в то же время стекло, потому что он был свет. Из света были его площади, твердого, как камень. Из света были его сады, и свет шелестел в них и мерцал, как листва. Ангелы населяли его, у них не было крыльев, их подхватывал и нес все тот же свет, куда они пожелают или куда велит Он. И свет был в то же время звук, он лился отовсюду, и звук был как прекраснейшая музыка, как трубы и скрипки, от этой музыки хотелось кричать и плакать, раскинув руки. И я был счастлив в этих грезах. Но однажды я проснулся в полутемном доме, надо мной с лампой стоял хозяин, позади него шумно дышало все его семейство, и голос его срывался, когда он спросил меня:
![]() "Кто ты? Здесь было светло, как днем, пока ты спал, и звучало пение ангелов."
"Кто ты? Здесь было светло, как днем, пока ты спал, и звучало пение ангелов."
![]() "Я - сновидец", - ответил я, потому что мой город все еще стоял у меня перед глазами.
"Я - сновидец", - ответил я, потому что мой город все еще стоял у меня перед глазами.
![]() "Ясновидец! - ахнул он, а потом страшно обрадовался. - Скажи же, скажи же нам скорее, где наша корова? Два дня как она пропала, надежды мало, но, может быть, ты знаешь?"
"Ясновидец! - ахнул он, а потом страшно обрадовался. - Скажи же, скажи же нам скорее, где наша корова? Два дня как она пропала, надежды мало, но, может быть, ты знаешь?"
![]() И мой город исчез, а вместо него я увидел корову, она увязла в болоте и горестно мычала, мучаясь от жажды и молока, распиравшего вымя. Я описал этому доброму человеку место, с рассветом он пустился на поиски, а я попытался заснуть, но больше не видел своего города.
С тех пор он не может вернуться. Не может увидеть город, где свет как камень, дерево и звук, а звук - как прекраснейшая музыка. Он видит пропавшие кольца, детей, котят и ягнят, он видит будущий урожай и даже исход великих сражений, но его темные глаза печальны, а углы рта опущены вниз. Ни у кого не пропадал город, который как золото и в то же время стекло, никому не нужно найти такую пропажу.
И мой город исчез, а вместо него я увидел корову, она увязла в болоте и горестно мычала, мучаясь от жажды и молока, распиравшего вымя. Я описал этому доброму человеку место, с рассветом он пустился на поиски, а я попытался заснуть, но больше не видел своего города.
С тех пор он не может вернуться. Не может увидеть город, где свет как камень, дерево и звук, а звук - как прекраснейшая музыка. Он видит пропавшие кольца, детей, котят и ягнят, он видит будущий урожай и даже исход великих сражений, но его темные глаза печальны, а углы рта опущены вниз. Ни у кого не пропадал город, который как золото и в то же время стекло, никому не нужно найти такую пропажу.
![]() Мы идем по утренней дороге, босиком по траве на обочине. Какое-то время я молчу, а потом решаюсь сказать.
Мы идем по утренней дороге, босиком по траве на обочине. Какое-то время я молчу, а потом решаюсь сказать.
![]() - Послушай, - говорю я, - послушай. Я - лекарство от твоей болезни. Только ты можешь мне помочь, помоги мне. У меня пропал Бог.
- Послушай, - говорю я, - послушай. Я - лекарство от твоей болезни. Только ты можешь мне помочь, помоги мне. У меня пропал Бог.
![]() Никогда я не видел, чтобы плакали так внезапно и сильно. Он остановился, втянул в себя воздух, а выдохнул уже рыданием, и смехом, и слезами из ярко-синих глаз. А потом истаял в утреннем золотом свете, как роса на траве. Дальше я шел по дороге один.
Никогда я не видел, чтобы плакали так внезапно и сильно. Он остановился, втянул в себя воздух, а выдохнул уже рыданием, и смехом, и слезами из ярко-синих глаз. А потом истаял в утреннем золотом свете, как роса на траве. Дальше я шел по дороге один.
![]() Я ищу человека, у которого пропал бы Бог. Который как свет, который как музыка, который как золото и в то же время стекло. Сколько можно мне возвращать этих упавших, они как дети, я же брожу по этой земле уже столько лет - из деревни в деревню, от города к городу, из одной столицы в другую.
Я ищу человека, у которого пропал бы Бог. Который как свет, который как музыка, который как золото и в то же время стекло. Сколько можно мне возвращать этих упавших, они как дети, я же брожу по этой земле уже столько лет - из деревни в деревню, от города к городу, из одной столицы в другую.
одиночество
отнесите меня к реке,
положите меня в воду...
![]() Приходить на берег, оставлять одежду.
Приходить на берег, оставлять одежду.
![]() Сближаться лицами, слизывать с губ ледяную влагу.
Сближаться лицами, слизывать с губ ледяную влагу.
![]() Касаться всем телом игры света и тени, утолять жажду.
Касаться всем телом игры света и тени, утолять жажду.
![]() Входить по самое горло, медленно, осторожно, плача и задыхаясь, но никогда дважды.
Входить по самое горло, медленно, осторожно, плача и задыхаясь, но никогда дважды.
![]() Кружить, расплескивать брызги в четыре ладони, выходить, погружаться снова, ласкать, как любовника, черный омут.
Кружить, расплескивать брызги в четыре ладони, выходить, погружаться снова, ласкать, как любовника, черный омут.
![]() Ложиться на берегу, подставиться солнцу, ты - живот, а я - спину, греться. Водить пальцами по влажным ресницам. Глотать пополам со слезами сердце.
Ложиться на берегу, подставиться солнцу, ты - живот, а я - спину, греться. Водить пальцами по влажным ресницам. Глотать пополам со слезами сердце.
![]() - Ты опять плачешь, не приходи снова, как только уйдешь, меня в тот же час не станет, ты будешь свободен. Иди в пыльный город, найди себе пару, белокожего мальчика или карра, проводи с ними ночи, не ходи на мой берег.
- Ты опять плачешь, не приходи снова, как только уйдешь, меня в тот же час не станет, ты будешь свободен. Иди в пыльный город, найди себе пару, белокожего мальчика или карра, проводи с ними ночи, не ходи на мой берег.
![]() - Не могу уйти в город, не могу найти пары. Если есть ты у меня, зачем другие мужчины?
- Не могу уйти в город, не могу найти пары. Если есть ты у меня, зачем другие мужчины?
![]() Если есть ты у меня, о ком мне еще плакать? Пусть мальчиков ищут себе солдаты, пусть шарят жадно глазами среди актеров. Никогда и ни с кем я не буду так близок. Ничью воду не буду пить с такой жаждой. Не смогу взглянуть ни на одного мужчину, подойти не смогу к нему, не то что коснуться. Ты всегда со мной, в радости я или печали, в скорби или гневе, в болезни или здоровье, ты всегда при мне, неизменен, неизменяем. Ни уйти от тебя, ни отвыкнуть, куда я ни гляну, вижу только тебя.
Если есть ты у меня, о ком мне еще плакать? Пусть мальчиков ищут себе солдаты, пусть шарят жадно глазами среди актеров. Никогда и ни с кем я не буду так близок. Ничью воду не буду пить с такой жаждой. Не смогу взглянуть ни на одного мужчину, подойти не смогу к нему, не то что коснуться. Ты всегда со мной, в радости я или печали, в скорби или гневе, в болезни или здоровье, ты всегда при мне, неизменен, неизменяем. Ни уйти от тебя, ни отвыкнуть, куда я ни гляну, вижу только тебя.
![]() - Но ведь женщина, женщина есть у тебя.
- Но ведь женщина, женщина есть у тебя.
![]() - Женщина для другого.
- Женщина для другого.
![]() - Для чего?
- Для чего?
![]() - Чтобы к ночи, когда ты становишься едва виден, мог я услышать сварливый голос, вот он, слышишь, все ближе?
- Чтобы к ночи, когда ты становишься едва виден, мог я услышать сварливый голос, вот он, слышишь, все ближе?
![]() - Нарцисс, сколько можно ходить за водой, ты ушел рано утром, ты весь день пролежал на земле, Нарцисс, ты когда-нибудь так и останешься здесь у воды, забыв обо всем, на себя любуясь, иди домой, Нарцисс, пора собирать ужин!
- Нарцисс, сколько можно ходить за водой, ты ушел рано утром, ты весь день пролежал на земле, Нарцисс, ты когда-нибудь так и останешься здесь у воды, забыв обо всем, на себя любуясь, иди домой, Нарцисс, пора собирать ужин!
жрица
![]() Ей бы жить Спящей Королевой.
Ей бы жить Спящей Королевой.
![]() Чтобы маленький двор, и слуги - старые, настоящие английские камердинеры. Чтобы строгий кот, которому все можно, который Самый Главный в доме. Чтобы огромная, немного неряшливая в своей беспорядочности и смятости кровать. Чтобы все ходили вокруг на самых кончиках пальцев, боясь спугнуть божественные сны. Чтобы поправляли подушки, чтобы расчесывали волосы, напевали колыбельные. Чтобы было заклятие, которое не снять никакими силами - и не дай Бог найдутся желающие, то есть нет, чтобы желающие были, но чтобы не преуспели.
Чтобы ее маленький мир вращался только вокруг нее, неизменный и уютный, чтобы не солнце, а желтая лампа, чтобы тепло камина, чтобы каждый день ждали, что она приоткроет глаза и скажет сонно:
Чтобы маленький двор, и слуги - старые, настоящие английские камердинеры. Чтобы строгий кот, которому все можно, который Самый Главный в доме. Чтобы огромная, немного неряшливая в своей беспорядочности и смятости кровать. Чтобы все ходили вокруг на самых кончиках пальцев, боясь спугнуть божественные сны. Чтобы поправляли подушки, чтобы расчесывали волосы, напевали колыбельные. Чтобы было заклятие, которое не снять никакими силами - и не дай Бог найдутся желающие, то есть нет, чтобы желающие были, но чтобы не преуспели.
Чтобы ее маленький мир вращался только вокруг нее, неизменный и уютный, чтобы не солнце, а желтая лампа, чтобы тепло камина, чтобы каждый день ждали, что она приоткроет глаза и скажет сонно:
![]() "Я видела во сне Бога".
"Я видела во сне Бога".
![]() И все замрут в немом обожании, не столько ее самой, сколько ее грез, а еще больше - того, что ни она, ни ее сны никому не причиняют вреда, и так будет всегда, пока она спит в своем несуществующем мире.
И все замрут в немом обожании, не столько ее самой, сколько ее грез, а еще больше - того, что ни она, ни ее сны никому не причиняют вреда, и так будет всегда, пока она спит в своем несуществующем мире.
![]() Недействующая Пифия, Спящая Королева.
Недействующая Пифия, Спящая Королева.
![]() Жаль, что нет такого Бога, которому нужна такая невеста, а то Он непременно обеспечил бы ей и двор, и сон, и грезы.
Жаль, что нет такого Бога, которому нужна такая невеста, а то Он непременно обеспечил бы ей и двор, и сон, и грезы.
![]() И из всего двора только кот, а сны темны и невнятны, и тот единственный Бог, Который Есть, пожимает плечами и отмахивается нетерпеливо: "Дорогая, займись уже чем-нибудь".
И из всего двора только кот, а сны темны и невнятны, и тот единственный Бог, Который Есть, пожимает плечами и отмахивается нетерпеливо: "Дорогая, займись уже чем-нибудь".
![]() А ей бы спать, ни о чем не заботиться и не причинять вреда...
А ей бы спать, ни о чем не заботиться и не причинять вреда...
Про держателей и раскачивателей (Сказки на Пасху)
И начал Дух Господень раскачивать в нем в стане Дановом,
между Цорою и Естаолом.
Книга Судей 13:25
1.
![]() Зеленоглазый мой Боже, город твоих осенних кошмаров прекрасен, кошки твоих осенних кошмаров мурлычут и лезут на руки, золото твоих деревьев неподдельно и доступно всем, каштаны градом сыплются с веток.
Зеленоглазый мой Боже, город твоих осенних кошмаров прекрасен, кошки твоих осенних кошмаров мурлычут и лезут на руки, золото твоих деревьев неподдельно и доступно всем, каштаны градом сыплются с веток.
![]() Безумие твоих осенних кошмаров притягательно и заразно.
Безумие твоих осенних кошмаров притягательно и заразно.
![]() Всюду следуя тебе, Господи, прошу только об одном: будь осторожнее, когда на тебе венец из желтых листьев, когда ты раскачиваешь осеннее солнце вперемешку с осенней луной, так что ближе к закату два красных диска тяжеловесно пляшут с двух сторон горизонта.
Всюду следуя тебе, Господи, прошу только об одном: будь осторожнее, когда на тебе венец из желтых листьев, когда ты раскачиваешь осеннее солнце вперемешку с осенней луной, так что ближе к закату два красных диска тяжеловесно пляшут с двух сторон горизонта.
![]() Люди слабы в это время, им бы, как золотому листу, упасть на землю тяжелой монетой, укрыться снегом и изойти в землю, потому что когда еще весна, и неизвестно, каков будет цвет твоих глаз, когда сойдет снег.
Люди слабы в это время, им бы, как золотому листу, упасть на землю тяжелой монетой, укрыться снегом и изойти в землю, потому что когда еще весна, и неизвестно, каков будет цвет твоих глаз, когда сойдет снег.
2.
![]() Вот комната на чердаке под самой крышей.
Вот комната на чердаке под самой крышей.
![]() Посреди комнаты стоит табуретка, на табуретке лежит раскрытая летняя книга
о том,
Посреди комнаты стоит табуретка, на табуретке лежит раскрытая летняя книга
о том,
![]() как ты живешь в этом мире,
как ты живешь в этом мире,
![]() когда ты Бог.
когда ты Бог.
![]() Но на самом деле ты сидишь на полу и куришь,
Но на самом деле ты сидишь на полу и куришь,
![]() вытянув одну ногу, поджав другую, прислонясь спиной к старому дивану,
вытянув одну ногу, поджав другую, прислонясь спиной к старому дивану,
![]() сидишь и читаешь летнюю книгу, отложив ее на табурет рядом, не глядя в страницы,
сидишь и читаешь летнюю книгу, отложив ее на табурет рядом, не глядя в страницы,
![]() и думаешь, что все немного иначе,
и думаешь, что все немного иначе,
![]() и что рассказать об этом невозможно, да и некому,
и что рассказать об этом невозможно, да и некому,
![]() и приходится писать книгу,
и приходится писать книгу,
![]() о том, каково это,
о том, каково это,
![]() из имаго - во взрослую особь,
из имаго - во взрослую особь,
![]() сбивчиво, сквозь ночные сны,
сбивчиво, сквозь ночные сны,
![]() сквозь оцепенение и жалость к себе,
сквозь оцепенение и жалость к себе,
![]() сквозь игры о самом важном.
сквозь игры о самом важном.
![]() И ты пишешь книгу, потому что иначе никак, разорвешься,
И ты пишешь книгу, потому что иначе никак, разорвешься,
![]() и хорошо понимаешь,
и хорошо понимаешь,
![]() что потом Бог точно так же будет сидеть на полу и качать головой:
что потом Бог точно так же будет сидеть на полу и качать головой:
![]() "ты упустил самое важное, Автор," -
"ты упустил самое важное, Автор," -
![]() и, проснувшись однажды,
и, проснувшись однажды,
![]() начнет писать сам.
начнет писать сам.
3.
![]() Очень легко оказалось вздернуть его в воздух, высоко над городом, он здорово исхудал за эти свои три года шатанья по дорогам, легко поставить против невыносимого золотого свечения, так, чтобы заслонял глаза и отворачивался. Белое солнце на белом небе пекло так, что золотое марево дрожало над куполом плотным столбом. Град золотой небесный над градом земным. Оба молчали. Невидимый не выдержал первым.
Очень легко оказалось вздернуть его в воздух, высоко над городом, он здорово исхудал за эти свои три года шатанья по дорогам, легко поставить против невыносимого золотого свечения, так, чтобы заслонял глаза и отворачивался. Белое солнце на белом небе пекло так, что золотое марево дрожало над куполом плотным столбом. Град золотой небесный над градом земным. Оба молчали. Невидимый не выдержал первым.
![]() - Ну хорошо, я понимаю, ты почему-то уверен, что это необходимо. Но зачем таким-то способом? Объясни мне, какого черта? Тело это разлагающееся тебе - зачем? Вонь изо рта? Ежедневные испражнения? Зачем было непременно воплощаться?
- Ну хорошо, я понимаю, ты почему-то уверен, что это необходимо. Но зачем таким-то способом? Объясни мне, какого черта? Тело это разлагающееся тебе - зачем? Вонь изо рта? Ежедневные испражнения? Зачем было непременно воплощаться?
![]() Тому, кто был видим, хотелось пить, от жары сводило губы, этот допрос был не нужен никому из них, но спрашивающий мучался больше, и выносить эту муку было горше, чем жажду.
Тому, кто был видим, хотелось пить, от жары сводило губы, этот допрос был не нужен никому из них, но спрашивающий мучался больше, и выносить эту муку было горше, чем жажду.
![]() - Ты не хуже меня знаешь правила, - сказал наконец человек извиняющимся тоном. - Как будто у меня был выбор.
- Ты не хуже меня знаешь правила, - сказал наконец человек извиняющимся тоном. - Как будто у меня был выбор.
![]() - Как будто не было!
- Как будто не было!
![]() - Не-деяние в этом случае не подходит. И это ты тоже отлично знаешь.
- Не-деяние в этом случае не подходит. И это ты тоже отлично знаешь.
![]() - Очень хорошо. То есть ты предоставляешь не-деяние мне. Ты видишь, как я польщен и обрадован? Смотри на меня, черт бы тебя побрал!
- Очень хорошо. То есть ты предоставляешь не-деяние мне. Ты видишь, как я польщен и обрадован? Смотри на меня, черт бы тебя побрал!
![]() Человек чуть повернул в его сторону лицо. Распухшие веки оставляли для глаз совсем узкую щель, в нее сквозь ресницы еще как-то можно было смотреть на золотое марево, в котором раскачивалась темная фигура. Лицо вопрошающего было бледно, белее снега, словно он впервые в жизни вышел на солнце из кромешной тьмы.
Человек чуть повернул в его сторону лицо. Распухшие веки оставляли для глаз совсем узкую щель, в нее сквозь ресницы еще как-то можно было смотреть на золотое марево, в котором раскачивалась темная фигура. Лицо вопрошающего было бледно, белее снега, словно он впервые в жизни вышел на солнце из кромешной тьмы.
![]() - Что ты хочешь, чтобы я сделал теперь?
- Что ты хочешь, чтобы я сделал теперь?
![]() - Я хочу, чтобы ты отказался. Я требую. Я имею право требовать, чтобы ты подчинился мне - как родич, как единое целое. Мне не нравится эта твоя идея - умирать в человеческом теле.
- Я хочу, чтобы ты отказался. Я требую. Я имею право требовать, чтобы ты подчинился мне - как родич, как единое целое. Мне не нравится эта твоя идея - умирать в человеческом теле.
![]() - Ты сейчас ведешь себя глупо. Я не могу теперь это прекратить.
- Ты сейчас ведешь себя глупо. Я не могу теперь это прекратить.
![]() - Прекраснейшим образом можешь. Прыгай вниз, здесь достаточно высоко. Это будет куда быстрее и вернее, чем твое задуманное - здесь же я. Я поймаю тебя. Тело, конечно, достанется воронам, но какая разница?
- Прекраснейшим образом можешь. Прыгай вниз, здесь достаточно высоко. Это будет куда быстрее и вернее, чем твое задуманное - здесь же я. Я поймаю тебя. Тело, конечно, достанется воронам, но какая разница?
![]() - Я не могу. Я должен закончить.
- Я не могу. Я должен закончить.
![]() Он сел и обхватил руками колени.
Он сел и обхватил руками колени.
![]() - Как ты не понимаешь, что я не могу? - повторил он, чуть не плача. - Ты зачем пришел? Отговаривать меня? Тогда уходи. Уходи, уходи, ты же мучаешь меня.
- Как ты не понимаешь, что я не могу? - повторил он, чуть не плача. - Ты зачем пришел? Отговаривать меня? Тогда уходи. Уходи, уходи, ты же мучаешь меня.
![]() Невидимый тяжело вздохнул и сел рядом.
Невидимый тяжело вздохнул и сел рядом.
![]() - Зачем ты это делаешь? - спросил он наконец очень тихо. - Ты можешь сказать, мне - зачем?
- Зачем ты это делаешь? - спросил он наконец очень тихо. - Ты можешь сказать, мне - зачем?
![]() - Я спасаю тебя, - усмехнулся человек. - Но ты об этом не знаешь. Можешь спросить у Старшего, но он пока тоже не слишком хочет знать. Свобода выбора распространяется на всех нас. Мне всегда казалось это невероятно забавным.
- Я спасаю тебя, - усмехнулся человек. - Но ты об этом не знаешь. Можешь спросить у Старшего, но он пока тоже не слишком хочет знать. Свобода выбора распространяется на всех нас. Мне всегда казалось это невероятно забавным.
![]() Невидимый, хмурясь, смотрел ему в лицо какое-то время. Потом дернул губами и отвел взгляд.
Невидимый, хмурясь, смотрел ему в лицо какое-то время. Потом дернул губами и отвел взгляд.
![]() - Кстати, о Старшем. Нам с тобой обоим придется какое-то время не показываться ему на глаза. Я даже не представляю, что он нам устроит после всего этого.
- Кстати, о Старшем. Нам с тобой обоим придется какое-то время не показываться ему на глаза. Я даже не представляю, что он нам устроит после всего этого.
![]() Человек хихикнул.
Человек хихикнул.
![]() - Да уж. Но я и так появлюсь только через какое-то время. И... и было бы хорошо, если бы ты был поблизости и придержал меня, пока я не закончу. Просто на всякий случай. Раз уж мы собираемся не оповещать...
- Да уж. Но я и так появлюсь только через какое-то время. И... и было бы хорошо, если бы ты был поблизости и придержал меня, пока я не закончу. Просто на всякий случай. Раз уж мы собираемся не оповещать...
![]() - Ага. Я буду сидеть на твоей гробнице с огненным мечом и гонять от пустого гроба твою свиту. - Он вытянул руку и показал куда-то вниз. - Легки на помине. Меня они не увидят, но, кажется, уже увидели тебя. Что ты им скажешь?
- Ага. Я буду сидеть на твоей гробнице с огненным мечом и гонять от пустого гроба твою свиту. - Он вытянул руку и показал куда-то вниз. - Легки на помине. Меня они не увидят, но, кажется, уже увидели тебя. Что ты им скажешь?
![]() Человек пожал плечами.
Человек пожал плечами.
![]() - Правду. Я всегда говорю им правду - так интереснее наблюдать за тем, что они из нее сделают. Приходил Сатана, предлагал покориться ему и отказаться. С крыши Храма вот предлагал прыгнуть.
- Правду. Я всегда говорю им правду - так интереснее наблюдать за тем, что они из нее сделают. Приходил Сатана, предлагал покориться ему и отказаться. С крыши Храма вот предлагал прыгнуть.
![]() - А ты что?
- А ты что?
![]() - А я его усовестил и велел любезному родичу валить на все четыре стороны и не искушать меня боле.
- А я его усовестил и велел любезному родичу валить на все четыре стороны и не искушать меня боле.
![]() Невидимый покивал.
Невидимый покивал.
![]() - Угу, они, небось, еще и пишут за тобой?
- Угу, они, небось, еще и пишут за тобой?
![]() - Еще нет. Но скоро начнут, я думаю. Тогда, когда я не смогу посмотреть, что же они там написали. Но ведь это не важно все. Пусть пишут, как хотят. Человеческий язык убог, все равно не выйдет путного. - Он опасливо заглянул через край, отодвинулся, встал на ноги.
- Еще нет. Но скоро начнут, я думаю. Тогда, когда я не смогу посмотреть, что же они там написали. Но ведь это не важно все. Пусть пишут, как хотят. Человеческий язык убог, все равно не выйдет путного. - Он опасливо заглянул через край, отодвинулся, встал на ноги.
![]() - Ты только не забудь спустить меня отсюда, хорошо? В этом теле я лишен вездесущия.
- Ты только не забудь спустить меня отсюда, хорошо? В этом теле я лишен вездесущия.
![]() Невидимый неподвижно сидел и смотрел на белое солнце. Золотое марево столбом раскачивалось и плясало вокруг него. В этом мареве очертания домов, мосты и башни принимали изменчивые, причудливые формы, как будто оплывали и таяли под полуденным солнцем.
Невидимый неподвижно сидел и смотрел на белое солнце. Золотое марево столбом раскачивалось и плясало вокруг него. В этом мареве очертания домов, мосты и башни принимали изменчивые, причудливые формы, как будто оплывали и таяли под полуденным солнцем.
![]() - Красивый город, - сказал он. - И красивый храм. Жаль его.
- Красивый город, - сказал он. - И красивый храм. Жаль его.
4.
![]() Иуда говорит:
Иуда говорит:
![]() Как бы нам, мое сердце, пережить эту плохую, негодную, страстную неделю? А затем еще одну, и еще, и еще, и так до тех пор, пока не наступит весна с глазами цвета твоего неба?
Как бы нам, мое сердце, пережить эту плохую, негодную, страстную неделю? А затем еще одну, и еще, и еще, и так до тех пор, пока не наступит весна с глазами цвета твоего неба?
![]() Как бы нам, мой хороший, растянуть эти тридцать монет на такой преогромный пост, как бы нам прожить на хлебе и рыбе, неразменных хлебе и рыбе, как бы нам напиться хмельной воды на какой-нибудь свадьбе?
Как бы нам, мой хороший, растянуть эти тридцать монет на такой преогромный пост, как бы нам прожить на хлебе и рыбе, неразменных хлебе и рыбе, как бы нам напиться хмельной воды на какой-нибудь свадьбе?
![]() Как бы нам сменить пыльный выцветший плащ на царский багрянец, где бы нам добыть венец, из каких цветов, ведь еще не сошел снег, и одни шипастые прутья торчат из земли вместо роз?
Как бы нам сменить пыльный выцветший плащ на царский багрянец, где бы нам добыть венец, из каких цветов, ведь еще не сошел снег, и одни шипастые прутья торчат из земли вместо роз?
![]() Как бы нам, мой бессмертный, обернуться в саван, лечь под камень и воскреснуть на третий день, чтобы открыть глаза, - а уже весна?
Как бы нам, мой бессмертный, обернуться в саван, лечь под камень и воскреснуть на третий день, чтобы открыть глаза, - а уже весна?
![]() Христос говорит:
Христос говорит:
![]() Как-нибудь, мой мальчик, как-нибудь.
Как-нибудь, мой мальчик, как-нибудь.
![]() Ты только к осине не подходи.
Ты только к осине не подходи.
5
![]() Если я бумага, то пиши на мне,
Если я бумага, то пиши на мне,
![]() я держатель тебе.
я держатель тебе.
![]() Если я холст, то рисуй, а то еще можешь крестиком поучиться вышивать, тоже дело хорошее.
Если я холст, то рисуй, а то еще можешь крестиком поучиться вышивать, тоже дело хорошее.
![]() Я держатель тебе.
Я держатель тебе.
![]() Если я воск, то лепи из меня -
Если я воск, то лепи из меня -
![]() я держатель тебе.
я держатель тебе.
![]() Но мять бумагу не смей, резать холст не моги, жечь воск не вздумай, я держатель тебе.
Но мять бумагу не смей, резать холст не моги, жечь воск не вздумай, я держатель тебе.
![]() И держи, держи меня, когда раскачаюсь я сам, когда ты мне - бумага, холст и воск, и не дай смять, порезать и сжечь.
И держи, держи меня, когда раскачаюсь я сам, когда ты мне - бумага, холст и воск, и не дай смять, порезать и сжечь.
![]() Ныне, присно и во веки веков.
Ныне, присно и во веки веков.
![]() А со всем остальным я и так управлюсь.
А со всем остальным я и так управлюсь.
не про секс
Почему нет слова "вылюбить" - как "выебать"?
Не про секс, а. Приходи и вылюби меня. Вылюби меня и уходи.
Линор Горалик
![]() Ты приходи.
Ты приходи.
![]() Ты умащивайся рядом, ты заглядывай в глаза снизу вверх, ты зарывайся носом, подпихивайся под локоть, шипи на кошек, зачем мне на колени лезут. Ты ворчи сонно у меня под боком, жалуйся невнятно, я буду тебя гладить, уминать, как глину, как холодный воск в пальцах, ты будешь мягчеть, мягчеть, потеплеешь, засветишься желтым, мы вылепим тебя заново из желтого меда и белого воска.
Ты умащивайся рядом, ты заглядывай в глаза снизу вверх, ты зарывайся носом, подпихивайся под локоть, шипи на кошек, зачем мне на колени лезут. Ты ворчи сонно у меня под боком, жалуйся невнятно, я буду тебя гладить, уминать, как глину, как холодный воск в пальцах, ты будешь мягчеть, мягчеть, потеплеешь, засветишься желтым, мы вылепим тебя заново из желтого меда и белого воска.
![]() Ты приходи, садись у ног, кури сигарету за сигаретой, рассказывай, дергай напряженно губами, говори отрывисто и сердито, я зарою тебе пальцы в волосы и подожду, пока ты выговоришься, а дальше уже можно будет просто помолчать.
Ты приходи, садись у ног, кури сигарету за сигаретой, рассказывай, дергай напряженно губами, говори отрывисто и сердито, я зарою тебе пальцы в волосы и подожду, пока ты выговоришься, а дальше уже можно будет просто помолчать.
![]() Ты приходи, бледный и больной, ложись лицом вниз, спи тяжелым сном. Я принесу плед, я завешу лампу черным платком, я перегорожу время, оставлю только щель, пусть течет тонкой струйкой, сколько его ни есть. Мы заварим малины и мяты, мы одолеем тяжелый сон, мы отпустим время и воду в реке, паводок придет, постоит зеленой волной у самых глаз, а потом уйдет, и можно будет открыть окна и не жечь по утрам свет.
Ты приходи, бледный и больной, ложись лицом вниз, спи тяжелым сном. Я принесу плед, я завешу лампу черным платком, я перегорожу время, оставлю только щель, пусть течет тонкой струйкой, сколько его ни есть. Мы заварим малины и мяты, мы одолеем тяжелый сон, мы отпустим время и воду в реке, паводок придет, постоит зеленой волной у самых глаз, а потом уйдет, и можно будет открыть окна и не жечь по утрам свет.
![]() Ты пропадай непонятно где, по каким-то своим важным и смешным делам, ты решай проблемы расположения звезд вдоль эклиптики, ты учи тигров рычать, а листья - желтеть, а потом приходи, ты увидишь, что все это время я стоял у окна и смотрел, не идешь ли ты.
Ты приходи, я возьму тебя к себе, отмолчу, отстою. Я тебя отстою как мессу в нотрдаме, как осажденный город, как собственную правоту.
Ты пропадай непонятно где, по каким-то своим важным и смешным делам, ты решай проблемы расположения звезд вдоль эклиптики, ты учи тигров рычать, а листья - желтеть, а потом приходи, ты увидишь, что все это время я стоял у окна и смотрел, не идешь ли ты.
Ты приходи, я возьму тебя к себе, отмолчу, отстою. Я тебя отстою как мессу в нотрдаме, как осажденный город, как собственную правоту.
![]() Я тебя отстою, тогда уж дальше пойдешь.
Я тебя отстою, тогда уж дальше пойдешь.