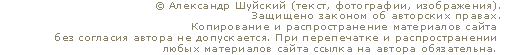к оглавлению
--»
Сказки второго часа ночи
буковки
![]() Заостренной палочкой по песку, у самой кромки воды, волна сглаживает песок, оставляет неясные обрывки, дает начало новым записям, и так без конца, без числа, без смысла и без причины.
Заостренной палочкой по песку, у самой кромки воды, волна сглаживает песок, оставляет неясные обрывки, дает начало новым записям, и так без конца, без числа, без смысла и без причины.
![]() Словом, вилами по воде пишу я в свои многочисленные тетради.
Словом, вилами по воде пишу я в свои многочисленные тетради.
![]() Но посмотрите на мой Город.
Но посмотрите на мой Город.
![]() На все его мосты и башни.
На все его мосты и башни.
![]() На всю его конницу, всю его рать.
На всю его конницу, всю его рать.
![]() И на могилы в его Храмах.
И на могилы в его Храмах.
дракон
![]() Одно хорошо: ест он, кажется, все, ну то есть все, что пахнет едой, он вообще неприхотлив в этом смысле - сахар так сахар, колбаса так колбаса. Свиристит радостно и утробно на все подряд, чирикает, как целая птичья лавка. Это он отогрелся и теперь доволен, а когда я подобрал его, мокрого, грязного, с рваными дырами в зеленых крыльях, он шипел, плевался искрами и норовил укусить за палец.
Одно хорошо: ест он, кажется, все, ну то есть все, что пахнет едой, он вообще неприхотлив в этом смысле - сахар так сахар, колбаса так колбаса. Свиристит радостно и утробно на все подряд, чирикает, как целая птичья лавка. Это он отогрелся и теперь доволен, а когда я подобрал его, мокрого, грязного, с рваными дырами в зеленых крыльях, он шипел, плевался искрами и норовил укусить за палец.
![]() Он свалился мне под ноги, скатился с неба верхом на голубой молнии, от его усов и гривы пахло мокрой паленой шерстью, я даже не сразу решился выудить его из лужи - я терпеть не могу голубей, особенно поджаренных молнией на лету, а выглядело это именно так, во всяком случае, ничего другого мне в первый момент в голову не пришло. Ливень как раз вознамерился стяжать себе славу потопа, вся Петроградская сторона тонула в пенном потоке воды, сквозь него осторожно пробирались сразу ставшие неуместными автомобили, их габаритные огни означали ватерлинии, а на лицах водителей читались недоумение и неуверенность. Я давно уже вымок с головы до ног, шлепал босыми пятками по лужам, и Владимир-на-Мокруше одобрительно поблескивал мне тусклым крестом сквозь сплошную пелену дождя. Молния прошила небо, прошла сквозь дождь стремительным ударом, клюнула в мокрую траву у самых моих ног. Я отскочил, а из травы раздалось громкое и злобное шипение - он бил крыльями, выгибал шею, раздувал крохотные ноздри и скалил четыре ряда белых щучьих зубов, а я стоял и таращился на него, словно никогда в жизни не видел драконов с голубя размером, в желто-зеленой чешуе и отвратительном настроении.
Он свалился мне под ноги, скатился с неба верхом на голубой молнии, от его усов и гривы пахло мокрой паленой шерстью, я даже не сразу решился выудить его из лужи - я терпеть не могу голубей, особенно поджаренных молнией на лету, а выглядело это именно так, во всяком случае, ничего другого мне в первый момент в голову не пришло. Ливень как раз вознамерился стяжать себе славу потопа, вся Петроградская сторона тонула в пенном потоке воды, сквозь него осторожно пробирались сразу ставшие неуместными автомобили, их габаритные огни означали ватерлинии, а на лицах водителей читались недоумение и неуверенность. Я давно уже вымок с головы до ног, шлепал босыми пятками по лужам, и Владимир-на-Мокруше одобрительно поблескивал мне тусклым крестом сквозь сплошную пелену дождя. Молния прошила небо, прошла сквозь дождь стремительным ударом, клюнула в мокрую траву у самых моих ног. Я отскочил, а из травы раздалось громкое и злобное шипение - он бил крыльями, выгибал шею, раздувал крохотные ноздри и скалил четыре ряда белых щучьих зубов, а я стоял и таращился на него, словно никогда в жизни не видел драконов с голубя размером, в желто-зеленой чешуе и отвратительном настроении.
![]() Я принес его домой, злого, дрожащего, икающего от холода и унижения, за полчаса пути я был искусан весь, кожаный рюкзак, в который я его в итоге засунул, нехорошо дымился и еле дотянул до моей Четырнадцатой линии. В доме он немедленно уселся в старый "стетсон", повозился, поворчал, прожег две дыры в фетровых полях, успокоился и заснул. Через час проснулся, долго и тщательно чистился, шипел на любопытствующих кошек - младшая все пыталась потрогать его лапой и едва не лишилась усов, - а потом принялся стаскивать в свою шляпу разный блестящий хлам - обрывки цепочек, немецкие и израильские монетки из глиняной миски на холодильнике, стеклянные бусины, даже куски латунной проволоки и фольгу от шоколадки. Обсохнув и устроившись так, как ему хотелось, он немедленно сменил гнев на милость, зачирикал, запищал на все лады, словом, потребовал есть.
Я принес его домой, злого, дрожащего, икающего от холода и унижения, за полчаса пути я был искусан весь, кожаный рюкзак, в который я его в итоге засунул, нехорошо дымился и еле дотянул до моей Четырнадцатой линии. В доме он немедленно уселся в старый "стетсон", повозился, поворчал, прожег две дыры в фетровых полях, успокоился и заснул. Через час проснулся, долго и тщательно чистился, шипел на любопытствующих кошек - младшая все пыталась потрогать его лапой и едва не лишилась усов, - а потом принялся стаскивать в свою шляпу разный блестящий хлам - обрывки цепочек, немецкие и израильские монетки из глиняной миски на холодильнике, стеклянные бусины, даже куски латунной проволоки и фольгу от шоколадки. Обсохнув и устроившись так, как ему хотелось, он немедленно сменил гнев на милость, зачирикал, запищал на все лады, словом, потребовал есть.
![]() Вот только накормить его, несмотря на всеядность, оказалось тяжеловато. Он так и пищал весь день, что бы я ему не подсунул - хотя съедать съедал, не капризничал. И тогда ближе к вечеру я скормил ему свой страх высоты - подумал, на что мне эта штука, совсем ведь я ею не пользуюсь, чего уж тут. Он съел, облизнулся и разом вырос, с колбасы у него так не получалось, даром что докторская, вполне себе приличная колбаса. Я отойти не успел, как он вслед за этой мелочью выудил из меня радость запаха лип - подцепил птичьим когтем и выудил, ловко так, почти незаметно, я даже не почувствовал ничего, а когда почувствовал, подумал, ладно, что ж, если ему так голодно, он, может, никогда не знал, не думал даже, как они пахнут в июле на весь город, особенно после дождя, ведь и запел после этого как-то по-особенному, веселее и осмысленнее как-то. У меня этих радостей - вагон и маленькая тележка, что ж я, не смогу дракона накормить, вон какая радуга на полнеба, чем она хуже липового духа...
Вот только накормить его, несмотря на всеядность, оказалось тяжеловато. Он так и пищал весь день, что бы я ему не подсунул - хотя съедать съедал, не капризничал. И тогда ближе к вечеру я скормил ему свой страх высоты - подумал, на что мне эта штука, совсем ведь я ею не пользуюсь, чего уж тут. Он съел, облизнулся и разом вырос, с колбасы у него так не получалось, даром что докторская, вполне себе приличная колбаса. Я отойти не успел, как он вслед за этой мелочью выудил из меня радость запаха лип - подцепил птичьим когтем и выудил, ловко так, почти незаметно, я даже не почувствовал ничего, а когда почувствовал, подумал, ладно, что ж, если ему так голодно, он, может, никогда не знал, не думал даже, как они пахнут в июле на весь город, особенно после дождя, ведь и запел после этого как-то по-особенному, веселее и осмысленнее как-то. У меня этих радостей - вагон и маленькая тележка, что ж я, не смогу дракона накормить, вон какая радуга на полнеба, чем она хуже липового духа...
![]() И снова он что-то съел, а что - не помню уже, не успел определить, тоже мелочь какую-то, оно и к лучшему, что не помню, хотя обидно немного и неуютно: как это, всю жизнь у меня была эта кроха, а теперь нет и просто пустое место, то есть не так, словно и не было никогда, а чувствуется, что было, как темное пятно на обоях от снятой и унесенной фотографии - невыгоревший прямоугольник памяти, которой уже не существует, да что вы, когда это было, о чем это вы говорите.
Теперь он не помещается в шляпу, торчит хвостом и птичьими когтистыми лапами наружу, щурит на меня желтые веселые глазки с вертикальными черными щелями в никуда и, я уж чувствую, примеривается, примеривается когтем ухватиться за что-нибудь еще, что-нибудь по-настоящему крупное, и когда ухватится, дернет на себя, вцепится острыми иглами-зубами, и блеснет это нечто слабым слюдяным блеском в его золотистой пасти - и ладно, пусть так, была - не была, может, тогда-то я наконец и узнаю, есть у меня душа или выдумки все это, выдумки досужие и суета.
И снова он что-то съел, а что - не помню уже, не успел определить, тоже мелочь какую-то, оно и к лучшему, что не помню, хотя обидно немного и неуютно: как это, всю жизнь у меня была эта кроха, а теперь нет и просто пустое место, то есть не так, словно и не было никогда, а чувствуется, что было, как темное пятно на обоях от снятой и унесенной фотографии - невыгоревший прямоугольник памяти, которой уже не существует, да что вы, когда это было, о чем это вы говорите.
Теперь он не помещается в шляпу, торчит хвостом и птичьими когтистыми лапами наружу, щурит на меня желтые веселые глазки с вертикальными черными щелями в никуда и, я уж чувствую, примеривается, примеривается когтем ухватиться за что-нибудь еще, что-нибудь по-настоящему крупное, и когда ухватится, дернет на себя, вцепится острыми иглами-зубами, и блеснет это нечто слабым слюдяным блеском в его золотистой пасти - и ладно, пусть так, была - не была, может, тогда-то я наконец и узнаю, есть у меня душа или выдумки все это, выдумки досужие и суета.
сон
![]() Осень забирается укоризной своей во все, даже в сны мои, сны забираются укоризной в жизнь, жизнь обретает привкус сушеной апельсиновой корки, присыпанной корицей коросты коричневой пенки вскипающего кофе...
Осень забирается укоризной своей во все, даже в сны мои, сны забираются укоризной в жизнь, жизнь обретает привкус сушеной апельсиновой корки, присыпанной корицей коросты коричневой пенки вскипающего кофе...
![]() Вот оно, вот оно, самое неуемное: вычеркни человека из жизни, потеряй его адрес и телефон, забудь, как близки были когда-то, спрячь самую память в далекий, теплый, не имеющий продолжения угол - и тот, кого ты так мучительно забывал, придет к тебе в снах, придет говорить о тебе и о том, что было когда-то.
Вот оно, вот оно, самое неуемное: вычеркни человека из жизни, потеряй его адрес и телефон, забудь, как близки были когда-то, спрячь самую память в далекий, теплый, не имеющий продолжения угол - и тот, кого ты так мучительно забывал, придет к тебе в снах, придет говорить о тебе и о том, что было когда-то.
![]() Разговор, как повторяющийся сон, сон, как повторяющийся разговор, костяной китайский шар в костяном китайском шаре, явь и сон меняются местами, истлевают, сплетаются, остаются в воздухе, как запах корицы в кофе.
Разговор, как повторяющийся сон, сон, как повторяющийся разговор, костяной китайский шар в костяном китайском шаре, явь и сон меняются местами, истлевают, сплетаются, остаются в воздухе, как запах корицы в кофе.
![]() Суета, толпа, что-то надо сделать, что-то решить, все куда-то спешат, и только мы вдвоем посреди этого потока, вырванные из общей кутерьмы, лишь делаем вид, что спешим вместе со всеми, на самом же деле уже семь лет ведем один и тот же бесконечный разговор:
Суета, толпа, что-то надо сделать, что-то решить, все куда-то спешат, и только мы вдвоем посреди этого потока, вырванные из общей кутерьмы, лишь делаем вид, что спешим вместе со всеми, на самом же деле уже семь лет ведем один и тот же бесконечный разговор:
![]() - Ты пропал и не заходишь, не звонишь даже. Почему?
- Ты пропал и не заходишь, не звонишь даже. Почему?
![]() - Ты отлично знаешь, почему. Я люблю тебя.
- Ты отлично знаешь, почему. Я люблю тебя.
![]() - Из любви не заходишь уже семь лет?
- Из любви не заходишь уже семь лет?
![]() - Когда я приду, я тебя потребую. А у тебя муж и двое детей.
- Когда я приду, я тебя потребую. А у тебя муж и двое детей.
![]() - Ну и что. Если любишь, какая тебе разница?
- Ну и что. Если любишь, какая тебе разница?
![]() - Мне - никакой. Но я не могу придти к тебе только за тем, чтобы сломать жизнь. Я слишком люблю тебя для этого.
- Мне - никакой. Но я не могу придти к тебе только за тем, чтобы сломать жизнь. Я слишком люблю тебя для этого.
![]() - Я не понимаю такой любви.
- Я не понимаю такой любви.
![]() - Все ты понимаешь. Ты же тоже не звонишь и не заходишь.
- Все ты понимаешь. Ты же тоже не звонишь и не заходишь.
![]() - Я о тебе думаю.
- Я о тебе думаю.
![]() - А я вижу тебя во сне куда чаще, чем это необходимо для спокойной жизни.
- А я вижу тебя во сне куда чаще, чем это необходимо для спокойной жизни.
![]() Как я скажу тебе, что все мои мысли - с тобой? Как объясню тебе, что ты могла бы гордиться мною теперь - теперь я и пишу, и рисую гораздо лучше, чем ты, а когда-то учился у тебя, бежал к тебе с каждым наброском, ежился от твоей беспощадной, кошмарной рецензии, надувал губы, уходил снова работать в свой угол.
Как я скажу тебе, что все мои мысли - с тобой? Как объясню тебе, что ты могла бы гордиться мною теперь - теперь я и пишу, и рисую гораздо лучше, чем ты, а когда-то учился у тебя, бежал к тебе с каждым наброском, ежился от твоей беспощадной, кошмарной рецензии, надувал губы, уходил снова работать в свой угол.
![]() И похвала твоя была как похвала Бога.
И похвала твоя была как похвала Бога.
![]() Как я скажу, что все поменялось местами, что теперь ты - это я, что я ношу тебя в себе, ношу твою насмешливую улыбку, твою и только твою манеру кривить губы, твой острый взгляд из-под тяжелых век? Что я присвоил это все себе, как свое, что я принял себе даже то имя, которое когда-то тебе отдал, как прежде того принял старшинство, которое стало тебе неуместно? Как я приду со всем этим к тебе теперь?
Как я скажу, что все поменялось местами, что теперь ты - это я, что я ношу тебя в себе, ношу твою насмешливую улыбку, твою и только твою манеру кривить губы, твой острый взгляд из-под тяжелых век? Что я присвоил это все себе, как свое, что я принял себе даже то имя, которое когда-то тебе отдал, как прежде того принял старшинство, которое стало тебе неуместно? Как я приду со всем этим к тебе теперь?
![]() Ведь я вывалю все это к твоим ногам и скажу - забери, ради всех богов, забери, я хочу быть младшим, я хочу уходить работать в свой угол, я хочу похвалы Бога.
Ведь я вывалю все это к твоим ногам и скажу - забери, ради всех богов, забери, я хочу быть младшим, я хочу уходить работать в свой угол, я хочу похвалы Бога.
![]() Ведь я потребую тебя, а у тебя муж и двое детей, и то время, когда мы с тобою были одни на свете, прошло уже двадцать лет назад.
Ведь я потребую тебя, а у тебя муж и двое детей, и то время, когда мы с тобою были одни на свете, прошло уже двадцать лет назад.
![]() Я просыпаюсь и с горечью сознаю, что мы только что виделись и говорили - вопреки нашему нежеланию звонить и заходить. И дежурный мой крепчайший кофе с корицей никак не перебивает эту горечь.
Я просыпаюсь и с горечью сознаю, что мы только что виделись и говорили - вопреки нашему нежеланию звонить и заходить. И дежурный мой крепчайший кофе с корицей никак не перебивает эту горечь.
в парикмахерской
![]() Она вошла в парихмахерскую, сильно брякнув дверным колокольчиком, и видно было, что звук этот доставляет ей немалое удовольствие. Перевалилась колобком через порог и встала, важно покачиваясь с носка на пятку. С виду было ей года четыре с половиной, парихмахерскую эту она знала столько, сколько себя помнила, то есть уж немалый срок, а потому держалась хозяйкой.
Она вошла в парихмахерскую, сильно брякнув дверным колокольчиком, и видно было, что звук этот доставляет ей немалое удовольствие. Перевалилась колобком через порог и встала, важно покачиваясь с носка на пятку. С виду было ей года четыре с половиной, парихмахерскую эту она знала столько, сколько себя помнила, то есть уж немалый срок, а потому держалась хозяйкой.
![]() - Маша! - выкрикнула из-за зеркала и клиента мастер. - Что ты здесь делаешь? И кто тебя одевал?
- Маша! - выкрикнула из-за зеркала и клиента мастер. - Что ты здесь делаешь? И кто тебя одевал?
![]() - Я сама, - величественно сообщила Маша. - Я к тебе пришла.
- Я сама, - величественно сообщила Маша. - Я к тебе пришла.
![]() - Как - сама? А Сергей что?
- Как - сама? А Сергей что?
![]() - А Сергей спит. А я вызвала пожарных.
- А Сергей спит. А я вызвала пожарных.
![]() Ножницы брякнули об пол. Соседки справа и напротив разом выключили фены.
Ножницы брякнули об пол. Соседки справа и напротив разом выключили фены.
![]() - К-как пожарных? Вызвала? К нам? - Мать кинулась к дочери и принялась тормошить ее, видимо, выискивая опаленные места на шубке и ярком рюкзачке за плечами. - У нас что - пожар? А Сережа...
- К-как пожарных? Вызвала? К нам? - Мать кинулась к дочери и принялась тормошить ее, видимо, выискивая опаленные места на шубке и ярком рюкзачке за плечами. - У нас что - пожар? А Сережа...
![]() Не договорив, она кинулась к телефону.
Не договорив, она кинулась к телефону.
![]() - Ну нету у нас пожара, я бы не пришла, если бы у нас пожар, - рассудительно заметила девочка. - Я бабушке хотела позвонить. И случайно вызвала пожарных.
- Ну нету у нас пожара, я бы не пришла, если бы у нас пожар, - рассудительно заметила девочка. - Я бабушке хотела позвонить. И случайно вызвала пожарных.
![]() Мать уже в три рывка накрутила диск и кричала в черную трубку:
Мать уже в три рывка накрутила диск и кричала в черную трубку:
![]() - Сергей? Сергей, как она у тебя ушла? Ты знаешь, что она пожарных вызвала? Ты знаешь, сколько это стоит сейчас - ложный вызов? Я тебе посплю! У меня нет таких денег, ты слышишь, я хотела бы знать, кто будет это оплачивать, когда они приедут! Я т-тебе покажу «сплю»! Я т-тебе!..
- Сергей? Сергей, как она у тебя ушла? Ты знаешь, что она пожарных вызвала? Ты знаешь, сколько это стоит сейчас - ложный вызов? Я тебе посплю! У меня нет таких денег, ты слышишь, я хотела бы знать, кто будет это оплачивать, когда они приедут! Я т-тебе покажу «сплю»! Я т-тебе!..
![]() На другом конце провода сонный тинейджер, замученный ночным интернетом, миролюбиво бормотал «да что ты, мать, они б уже сто раз приехали, если б она правда вызвала, ее, наверное, Тетьдаша выпустила, ма-ать...» - и прочие бессвязные оправдания, когда важная Мария с опытностию всех своих четырех с половиной басом успокоила родительницу:
На другом конце провода сонный тинейджер, замученный ночным интернетом, миролюбиво бормотал «да что ты, мать, они б уже сто раз приехали, если б она правда вызвала, ее, наверное, Тетьдаша выпустила, ма-ать...» - и прочие бессвязные оправдания, когда важная Мария с опытностию всех своих четырех с половиной басом успокоила родительницу:
![]() - Ну, мама, ну ты совсем глупая какая-то. Я же им адрес и телефон не дала.
- Ну, мама, ну ты совсем глупая какая-то. Я же им адрес и телефон не дала.
![]() Мать без сил опустилась в продавленное кресло у администраторского стола. Черную трубку телефона она сжимала крепко, как спасательный круг.
Мать без сил опустилась в продавленное кресло у администраторского стола. Черную трубку телефона она сжимала крепко, как спасательный круг.
![]() - Не дала? - жалко, словно не веря в очевидное чудо, переспросила она.
- Не дала? - жалко, словно не веря в очевидное чудо, переспросила она.
![]() - Конечно же, нет. Они спрашивали, спрашивали, а я трубку повесила и все. Ты сама мне говорила.
- Конечно же, нет. Они спрашивали, спрашивали, а я трубку повесила и все. Ты сама мне говорила.
![]() - Уф, Машка, ты меня раньше времени в могилу вгонишь! Чертовы детишки... - Мать готова была уже рассмеяться, - вместе с администратором, мастерами и клиентами, которые в продолжении всего разговора еще как-то сдерживались, а теперь хохотали в голос, - но посетительница быстро призвала их к порядку.
- Уф, Машка, ты меня раньше времени в могилу вгонишь! Чертовы детишки... - Мать готова была уже рассмеяться, - вместе с администратором, мастерами и клиентами, которые в продолжении всего разговора еще как-то сдерживались, а теперь хохотали в голос, - но посетительница быстро призвала их к порядку.
![]() - Я вообще не за этим пришла! - хмурясь, громко заявила она и выдержала эффектную паузу, давая всем возможность проникнуться серьезностью положения.
- Я вообще не за этим пришла! - хмурясь, громко заявила она и выдержала эффектную паузу, давая всем возможность проникнуться серьезностью положения.
![]() - Так что случилось? - опять побледнела мать.
- Так что случилось? - опять побледнела мать.
![]() Девочка надула губы, стащила с плеч цветастый рюкзачок и протянула матери.
Девочка надула губы, стащила с плеч цветастый рюкзачок и протянула матери.
![]() - Мне соседский Димка, - сказала она тоном прокурора, - кота в рюкзак засунул. И узел затянул. И я развязать не могу.
- Мне соседский Димка, - сказала она тоном прокурора, - кота в рюкзак засунул. И узел затянул. И я развязать не могу.
![]() - Ияууу! - жалобно и тонко провыл рюкзак и дернулся.
- Ияууу! - жалобно и тонко провыл рюкзак и дернулся.
мы покинем эту страну
![]() Это все зима, зима. Это все музыка, музыка. Это все о том, что весна больше никогда не наступит. Что ночь ушла, а вот весны не будет больше. Потому что какая весна, когда мы уходим отсюда.
Это все зима, зима. Это все музыка, музыка. Это все о том, что весна больше никогда не наступит. Что ночь ушла, а вот весны не будет больше. Потому что какая весна, когда мы уходим отсюда.
![]() И всей победы только то, что мир осыпается стылой листвой и мелким снегом - а мог бы осыпаться черной сажей, снегом лучше, это правда. И всей победы только то, что можно снова рожать детей - зимой многие рожают, что ж. Детки крепенькие, розовощекие, такие славные, человеческие. Но весны не будет уже никогда.
И всей победы только то, что мир осыпается стылой листвой и мелким снегом - а мог бы осыпаться черной сажей, снегом лучше, это правда. И всей победы только то, что можно снова рожать детей - зимой многие рожают, что ж. Детки крепенькие, розовощекие, такие славные, человеческие. Но весны не будет уже никогда.
![]() Из последних сил, из последней памяти лета, из последних нот - уничтожить тот сверкающий мир, который был прежде, потому что иначе он станет мертв. Тот, что после - все-таки живой. Чужой - да, но так тоже бывает, пожалуйста, не плачь, мы теперь уйдем отсюда. Но ведь живой. Здесь будут жить после нас, как жили мы, а все, которое прежде и наше, которое музыка и свет сквозь листву - это все лучше убить, чем дать ему переродиться под тьмой, потому что есть вещи, которые хуже смерти, и не тебе ли, заплатившему жизнью за это, знать, каково оно бывает. Сменить жизнь на бессмертие - не так-то просто, но ты справишься, я знаю.
Из последних сил, из последней памяти лета, из последних нот - уничтожить тот сверкающий мир, который был прежде, потому что иначе он станет мертв. Тот, что после - все-таки живой. Чужой - да, но так тоже бывает, пожалуйста, не плачь, мы теперь уйдем отсюда. Но ведь живой. Здесь будут жить после нас, как жили мы, а все, которое прежде и наше, которое музыка и свет сквозь листву - это все лучше убить, чем дать ему переродиться под тьмой, потому что есть вещи, которые хуже смерти, и не тебе ли, заплатившему жизнью за это, знать, каково оно бывает. Сменить жизнь на бессмертие - не так-то просто, но ты справишься, я знаю.
![]() Вот потому-то быть спасителем мира и означает «быть одному», но мир стоит того. Новое проросло на пустыре, что остался после нас, нам нетерпеливо смотрят в спины, не оборачивайся - превратишься в соляной столп. Иди вперед. Ты прошел уже столько, что сможешь пройти еще немного, эти берега больше не в силах выдержать наши следы, смотри, как они затягиваются серой пылью.
Вот потому-то быть спасителем мира и означает «быть одному», но мир стоит того. Новое проросло на пустыре, что остался после нас, нам нетерпеливо смотрят в спины, не оборачивайся - превратишься в соляной столп. Иди вперед. Ты прошел уже столько, что сможешь пройти еще немного, эти берега больше не в силах выдержать наши следы, смотри, как они затягиваются серой пылью.
![]() Здесь больше нет дома для тебя. Здесь больше нет весны для тебя. Здесь больше нет войны для тебя.
Здесь больше нет дома для тебя. Здесь больше нет весны для тебя. Здесь больше нет войны для тебя.
![]() И только плечо болит. Очень болит, я знаю. Пока будем плыть, будет болеть сильнее - ветер, влага, - а потом отойдет. Не бойся. Я обещаю, ты будешь спать почти всю дорогу. Война прошла для тебя в бреду и лихорадке, теперь ты будешь спать - тихо, без сновидений, без пробуждений в слезах, с невнятным криком.
И только плечо болит. Очень болит, я знаю. Пока будем плыть, будет болеть сильнее - ветер, влага, - а потом отойдет. Не бойся. Я обещаю, ты будешь спать почти всю дорогу. Война прошла для тебя в бреду и лихорадке, теперь ты будешь спать - тихо, без сновидений, без пробуждений в слезах, с невнятным криком.
![]() Пусть остальные думают, что остались в яви, мы не скажем им правды, так легче, так проще.
Мир осыпается листвой и мелким снегом.
Пусть остальные думают, что остались в яви, мы не скажем им правды, так легче, так проще.
Мир осыпается листвой и мелким снегом.
![]() Спи, теперь это навсегда.
Спи, теперь это навсегда.
друг
![]() Он приходит исключительно по ночам почему-то, уже далеко заполночь может раздаться звонок телефонный - всегда разный, я никогда не могу его вычислить, ни кто, ни с какого номера, хотя все остальные определяются тотчас - и голос, уже забытый с тех пор, как был неделю назад, говорит утвердительно: я зайду ненадолго.
Он приходит исключительно по ночам почему-то, уже далеко заполночь может раздаться звонок телефонный - всегда разный, я никогда не могу его вычислить, ни кто, ни с какого номера, хотя все остальные определяются тотчас - и голос, уже забытый с тех пор, как был неделю назад, говорит утвердительно: я зайду ненадолго.
![]() Я не то чтобы вздрагиваю, но никогда не готов к его визитам, всякий раз у меня совершенно иные планы, всякий раз он невовремя, он это хорошо знает, смеется над этим часто - да, не вовремя, я всегда не вовремя, хотя никогда не опаздываю, - и я почему-то смеюсь вместе с ним, хотя что смешного в этой шутке, она здорово пообтрепалась за последние несколько тысяч лет.
Я не то чтобы вздрагиваю, но никогда не готов к его визитам, всякий раз у меня совершенно иные планы, всякий раз он невовремя, он это хорошо знает, смеется над этим часто - да, не вовремя, я всегда не вовремя, хотя никогда не опаздываю, - и я почему-то смеюсь вместе с ним, хотя что смешного в этой шутке, она здорово пообтрепалась за последние несколько тысяч лет.
![]() Он приходит и садится в кресло, он чешет за ухом моих котов, он смотрит, как я работаю - рисую или пишу. Иногда рассказывает что-нибудь, но чаще просто молчит, и я молчу в его присутствии, нам так уютнее вдвоем друг с другом - молча смотреть ему за моей работой, а мне - за его отдыхом. Что он приходит отдыхать ко мне, это никаких сомнений, у него всегда только два состояния - отдых и работа, а работу его не спутаешь ни с чем, так что я знаю наверняка, гадать не приходится.Почему-то мне всегда отлично работается при нем, наверное, такой особенный взгляд - пристальный и в то же время доброжелательный, хотя спрашивать его мнения или совета - все равно, что ловить ветер руками, скажет что-то, наполнятся руки ветром - и улетело, утекло сквозь пальцы. Вот только что сказал - а что, уже не помню, и не помню, похвала это была или осуждение, наверное, из-за голоса, у него всегда такой ровный голос, как будто не воздух выходит из грудной клетки, а что-то более плотное, равномерное такое, как поток лавы из вулкана. Иногда он болтает совсем уж беспечно, и мне еще долго после его ухода мстится, что голос остался где-то по углам или, может быть, между оконными рамами, - а на самом деле это шумит просыпающийся город.
Он приходит и садится в кресло, он чешет за ухом моих котов, он смотрит, как я работаю - рисую или пишу. Иногда рассказывает что-нибудь, но чаще просто молчит, и я молчу в его присутствии, нам так уютнее вдвоем друг с другом - молча смотреть ему за моей работой, а мне - за его отдыхом. Что он приходит отдыхать ко мне, это никаких сомнений, у него всегда только два состояния - отдых и работа, а работу его не спутаешь ни с чем, так что я знаю наверняка, гадать не приходится.Почему-то мне всегда отлично работается при нем, наверное, такой особенный взгляд - пристальный и в то же время доброжелательный, хотя спрашивать его мнения или совета - все равно, что ловить ветер руками, скажет что-то, наполнятся руки ветром - и улетело, утекло сквозь пальцы. Вот только что сказал - а что, уже не помню, и не помню, похвала это была или осуждение, наверное, из-за голоса, у него всегда такой ровный голос, как будто не воздух выходит из грудной клетки, а что-то более плотное, равномерное такое, как поток лавы из вулкана. Иногда он болтает совсем уж беспечно, и мне еще долго после его ухода мстится, что голос остался где-то по углам или, может быть, между оконными рамами, - а на самом деле это шумит просыпающийся город.
![]() Он сидит у меня при свете настольной лампы, пока не начинает светать. И всегда я успеваю больше, чем наметил себе накануне, и к утру так легко становится, словно я заново родился, а не провел ночь в болтовне и посиделках со Смертью.
Он сидит у меня при свете настольной лампы, пока не начинает светать. И всегда я успеваю больше, чем наметил себе накануне, и к утру так легко становится, словно я заново родился, а не провел ночь в болтовне и посиделках со Смертью.
![]() Уходя, он всегда говорит "до свиданья". И легко улыбается при этом из-под своего неизменного капюшона.
Уходя, он всегда говорит "до свиданья". И легко улыбается при этом из-под своего неизменного капюшона.
![]() И я почему-то улыбаюсь в ответ, хотя этой шутке тоже не одна сотня лет. Я улыбаюсь тому, что он говорит это, выходя из моих дверей. И каждый раз, когда от меня уходит Смерть, дом остается гулким и пустым какое-то время, пока не наполняет его суета и серый свет утра, щебет птиц за окном, отрывистые гудки пароходов с Невы. Признаки жизни.
И я почему-то улыбаюсь в ответ, хотя этой шутке тоже не одна сотня лет. Я улыбаюсь тому, что он говорит это, выходя из моих дверей. И каждый раз, когда от меня уходит Смерть, дом остается гулким и пустым какое-то время, пока не наполняет его суета и серый свет утра, щебет птиц за окном, отрывистые гудки пароходов с Невы. Признаки жизни.
люди границы
![]() Это такая специальная порода людей, совершенно особенная.
Это такая специальная порода людей, совершенно особенная.
![]() Живут они одной ногой в этом мире, а другой - в другом. И часто другой мир держится поблизости от этого как раз именно потому, что его удерживает Человек Границы. Хотя бы пальцем. Хотя бы мысленно. Ошивается поблизости, как кот поблизости сметаны. Лепо миру ошиваться поблизости такого человека, так уж эти тонкие миры придуманы.
Живут они одной ногой в этом мире, а другой - в другом. И часто другой мир держится поблизости от этого как раз именно потому, что его удерживает Человек Границы. Хотя бы пальцем. Хотя бы мысленно. Ошивается поблизости, как кот поблизости сметаны. Лепо миру ошиваться поблизости такого человека, так уж эти тонкие миры придуманы.
![]() А Люди Границы придуманы так, чтобы им всегда было дело до смежного мира, который поблизости. И заняты Люди Границы как правило вещами такими, чтобы можно было в любой момент дотянуться до своего мира хоть ногой, хоть пальцем, хоть мысленно. Потому что если раз не дотянуться, два не дотянуться, то на третий раз непрочный мир может и обратно в прото-облако превратиться. И формируй его потом заново - еще неизвестно, во что отформируется.
А Люди Границы придуманы так, чтобы им всегда было дело до смежного мира, который поблизости. И заняты Люди Границы как правило вещами такими, чтобы можно было в любой момент дотянуться до своего мира хоть ногой, хоть пальцем, хоть мысленно. Потому что если раз не дотянуться, два не дотянуться, то на третий раз непрочный мир может и обратно в прото-облако превратиться. И формируй его потом заново - еще неизвестно, во что отформируется.
![]() Ну и, понятное дело, если Люди Границы долгое время не высыпаются, или, не дай Бог, не поедят вовремя или там, скажем, книжек дурацких обчитаются до полного несварения желудка - в обоих (или во всех) мирах начинается всякое.
Ну и, понятное дело, если Люди Границы долгое время не высыпаются, или, не дай Бог, не поедят вовремя или там, скажем, книжек дурацких обчитаются до полного несварения желудка - в обоих (или во всех) мирах начинается всякое.
![]() Происходят затмения на полнолуние - да не просто так, а с багровым венцом, - наступает зима, скисают сливки и плачут кошки. Тогда отравленному Человеку Границы нужно немедленно встряхиваться, жечь дурацкие книжки в камине, печь в этом же камине яблоки и поедать их с корицей и сахаром под чтение хороших, проверенных сказок.
Происходят затмения на полнолуние - да не просто так, а с багровым венцом, - наступает зима, скисают сливки и плачут кошки. Тогда отравленному Человеку Границы нужно немедленно встряхиваться, жечь дурацкие книжки в камине, печь в этом же камине яблоки и поедать их с корицей и сахаром под чтение хороших, проверенных сказок.
![]() Потому что никто другой миры держать не будет. Хотя попользоваться, конечно, всем лестно. Но ведь кто живет, а кто и просто так появился, для ровного счету. Что ж о числах-то горевать теперь.
Потому что никто другой миры держать не будет. Хотя попользоваться, конечно, всем лестно. Но ведь кто живет, а кто и просто так появился, для ровного счету. Что ж о числах-то горевать теперь.
![]() А вот сливки киснут и кошки плачут, да землетрясение в Нурланде - это куда важнее, от этого не денешься, не отмахнешься.
А вот сливки киснут и кошки плачут, да землетрясение в Нурланде - это куда важнее, от этого не денешься, не отмахнешься.
![]() Поэтому другие Люди, не пограничные, а так, просто Люди, держат дома запас кофе, и красного вина, и яблок, и корицы. И плед, и кошек, и хорошие, проверенные сказки.
Поэтому другие Люди, не пограничные, а так, просто Люди, держат дома запас кофе, и красного вина, и яблок, и корицы. И плед, и кошек, и хорошие, проверенные сказки.
последняя из рода
![]() Мать убьет ее.
Просто убьет.
Мать убьет ее.
Просто убьет.
![]() Сколько раз говорила она: никогда никого не подпускай к своим волосам - с гребнем ли, с ножницами ли, с чем угодно, ничьи руки не должны касаться этого жидкого золота, текучего меда, желтого моря. Ты такой жабенок, говорила мать, волосы - это все, что у тебя есть, можно подумать, что я родила тебя от кого-то другого, ты совсем не в отца, а ведь красивее его на свете никого не было, ну хоть волосы мои, так смотри за ними, смотри как следует, они дорогого стоят.
Сколько раз говорила она: никогда никого не подпускай к своим волосам - с гребнем ли, с ножницами ли, с чем угодно, ничьи руки не должны касаться этого жидкого золота, текучего меда, желтого моря. Ты такой жабенок, говорила мать, волосы - это все, что у тебя есть, можно подумать, что я родила тебя от кого-то другого, ты совсем не в отца, а ведь красивее его на свете никого не было, ну хоть волосы мои, так смотри за ними, смотри как следует, они дорогого стоят.
![]() Жабенок, конечно, жабенок и есть - худая, большеротая, скуластая, с бледными глазами на бледном лице, дурнушка, особенно рядом с матерью, всей красоты и есть только, что волосы. Она слыхала это множество раз, тысячи, сотни тысяч раз, сложно было не запомнить, хотя вообще-то память у нее не слишком хорошая, дырявая, вообще-то, никудышная память.
Жабенок, конечно, жабенок и есть - худая, большеротая, скуластая, с бледными глазами на бледном лице, дурнушка, особенно рядом с матерью, всей красоты и есть только, что волосы. Она слыхала это множество раз, тысячи, сотни тысяч раз, сложно было не запомнить, хотя вообще-то память у нее не слишком хорошая, дырявая, вообще-то, никудышная память.
![]() Кое-что она хорошо помнила - лес и башню, огонь в камине и псов у огня, и мать, расчесывающую ее золотой водопад вечерами. Материнский смех - то ясный и звонкий, как пенье реки у подножия башни, то визгливый и злой, когда она в ярости гнала от себя псов, огромных поджарых псов, исполнявших любое ее желание, трусивших перед ней, как свиньи перед Цирцеей. У них были на то все основания, у этих больших, лохматых кобелей, они все еще рассчитывали когда-нибудь снова стать людьми, но мама смеялась и говорила, что пес - самый благородный облик для вонючих похотливых козлов, и тут она не могла не согласиться с мамой, потому что уж конечно лучше быть псом, знакомым, лохматым веселым псом, чем непонятным вонючим козлом. Но визгливых ноток в мамином смехе боялась, как и псы, убегала в лес, пряталась, спала в кучах осенней листвы. Мать отходила, спохватывалась, вспоминала о ней, посылала псов, но их и посылать не надо было, матери они боялись, а ее любили, ее вообще любило зверье, ни разу никто не укусил и не поцарапал, они прибегали за ней, звали, вели домой, и мать, бранясь, осторожно вычесывала листья и мусор из ее золотых волос, повторяя, что раз больше ничего нет, так хоть это надо беречь, а не валяться неприбранной в сырой листве.
Кое-что она хорошо помнила - лес и башню, огонь в камине и псов у огня, и мать, расчесывающую ее золотой водопад вечерами. Материнский смех - то ясный и звонкий, как пенье реки у подножия башни, то визгливый и злой, когда она в ярости гнала от себя псов, огромных поджарых псов, исполнявших любое ее желание, трусивших перед ней, как свиньи перед Цирцеей. У них были на то все основания, у этих больших, лохматых кобелей, они все еще рассчитывали когда-нибудь снова стать людьми, но мама смеялась и говорила, что пес - самый благородный облик для вонючих похотливых козлов, и тут она не могла не согласиться с мамой, потому что уж конечно лучше быть псом, знакомым, лохматым веселым псом, чем непонятным вонючим козлом. Но визгливых ноток в мамином смехе боялась, как и псы, убегала в лес, пряталась, спала в кучах осенней листвы. Мать отходила, спохватывалась, вспоминала о ней, посылала псов, но их и посылать не надо было, матери они боялись, а ее любили, ее вообще любило зверье, ни разу никто не укусил и не поцарапал, они прибегали за ней, звали, вели домой, и мать, бранясь, осторожно вычесывала листья и мусор из ее золотых волос, повторяя, что раз больше ничего нет, так хоть это надо беречь, а не валяться неприбранной в сырой листве.
![]() А вот войны людские, сколько их ни было вокруг - не помнила вовсе, запомнила только последнюю, потому что с нею в лес впервые пришла зима. Мать все меньше смеялась и все больше визжала, люди теснили лес все настырнее, все выше поднимались по реке, мать уже не превращала их в псов, а просто убивала, и лес стал неприятный, хотя на диво разросся на могилах, нехороший стал лес, тихий, темный и пустой, и скоро мамин Зверь не выдержал и ушел, он и так-то появлялся очень редко, он не любил собак. И когда в лесу впервые настала зима, она поняла, что Зверь ушел навсегда. Если только его не убили люди - люди всегда охотились на таких, как он, в башне висела даже пара гобеленов с изображением такой охоты, хотя мама и говорила, что это - чушь, бубенцы эти, флейты, непорочные девы и золотые уздечки, должно что-то случится с лесом, чтобы Зверь вышел оттуда, а тогда уж лови его, если сможешь.
А вот войны людские, сколько их ни было вокруг - не помнила вовсе, запомнила только последнюю, потому что с нею в лес впервые пришла зима. Мать все меньше смеялась и все больше визжала, люди теснили лес все настырнее, все выше поднимались по реке, мать уже не превращала их в псов, а просто убивала, и лес стал неприятный, хотя на диво разросся на могилах, нехороший стал лес, тихий, темный и пустой, и скоро мамин Зверь не выдержал и ушел, он и так-то появлялся очень редко, он не любил собак. И когда в лесу впервые настала зима, она поняла, что Зверь ушел навсегда. Если только его не убили люди - люди всегда охотились на таких, как он, в башне висела даже пара гобеленов с изображением такой охоты, хотя мама и говорила, что это - чушь, бубенцы эти, флейты, непорочные девы и золотые уздечки, должно что-то случится с лесом, чтобы Зверь вышел оттуда, а тогда уж лови его, если сможешь.
![]() Зверь ли ушел и пришла зима, наоборот ли, но жить в лесу стало совсем невмоготу, и она вышла, прямо по снегу, и попала на какой-то солдатский лагерь, их много было, этих лагерей, она уж не помнила, сколько. Там ей сообразили какую-то одежду, все хотели куда-то отправить, как-то устроить ее судьбу, но она быстро догадалась и затвердила еще одно правило своей жизни - никогда не говори о себе первая и нигде не задерживайся долго. Они сами все рассказывали ей за нее - сирота, тронулась немного, ничего удивительного, бедные дети, эта проклятая война, эти проклятые русские иваны, эти проклятые немецкие фрицы. Они так перемелькались в ее голове, что после той зимы она долго не помнила ничего, да и не хотела помнить, потому что внезапно выяснилось, что зима приходит каждый год, приходит надолго, и в это время в лесу не проживешь, особенно, когда нет рядом ни мамы, ни гончих псов, а сама она еще проделывать такие вещи с людьми не умела. Всей ее силы хватало, чтобы немного отвести людям глаза, вовремя исчезнуть, ловко ответить на совсем уж непонятный вопрос, сделать в "бумагах" то, что они более всего ожидали видеть. И ни в коем случае не говорить о себе, нигде не задерживаться подолгу и никого не подпускать к волосам.
Зверь ли ушел и пришла зима, наоборот ли, но жить в лесу стало совсем невмоготу, и она вышла, прямо по снегу, и попала на какой-то солдатский лагерь, их много было, этих лагерей, она уж не помнила, сколько. Там ей сообразили какую-то одежду, все хотели куда-то отправить, как-то устроить ее судьбу, но она быстро догадалась и затвердила еще одно правило своей жизни - никогда не говори о себе первая и нигде не задерживайся долго. Они сами все рассказывали ей за нее - сирота, тронулась немного, ничего удивительного, бедные дети, эта проклятая война, эти проклятые русские иваны, эти проклятые немецкие фрицы. Они так перемелькались в ее голове, что после той зимы она долго не помнила ничего, да и не хотела помнить, потому что внезапно выяснилось, что зима приходит каждый год, приходит надолго, и в это время в лесу не проживешь, особенно, когда нет рядом ни мамы, ни гончих псов, а сама она еще проделывать такие вещи с людьми не умела. Всей ее силы хватало, чтобы немного отвести людям глаза, вовремя исчезнуть, ловко ответить на совсем уж непонятный вопрос, сделать в "бумагах" то, что они более всего ожидали видеть. И ни в коем случае не говорить о себе, нигде не задерживаться подолгу и никого не подпускать к волосам.
![]() Этот город стоял на реке и был похож на ее лес - такой же злой, сильный и напитавшийся мертвыми, и зима здесь царила две трети года, - может быть, поэтому она оставалась в нем дольше, чем следовало. Теперь это было проще, - и научилась, и в семьи брали охотно, главное было - вовремя уйти, когда почуешь, что пора, хватит уже, косо начинают смотреть. Что дичилась всех и вся, никому не казалось необычным, таких теперь и среди людских детей много было, золотая коса только выдавала ее везде, не было подобных волос у дворовых побирушек, не могло быть, и приходилось жить в семьях, молчать в женские глаза, снова слышать визгливый смех, понимать, что Зверь никогда не найдет ее здесь, даже если будет искать, ему просто в голову не придет, что хоть кто-то из ее народа способен выжить в этих домах грязно-желтого цвета, где всегда пахнет гнилой водой и жареной рыбой, запах жареной рыбы она не выносила, рыбу вообще видеть не могла, так у нее и осталась эта связка в голове - жареная рыба в протухшей воде, от одной мысли об этом желудок выворачивался наизнанку.
Этот город стоял на реке и был похож на ее лес - такой же злой, сильный и напитавшийся мертвыми, и зима здесь царила две трети года, - может быть, поэтому она оставалась в нем дольше, чем следовало. Теперь это было проще, - и научилась, и в семьи брали охотно, главное было - вовремя уйти, когда почуешь, что пора, хватит уже, косо начинают смотреть. Что дичилась всех и вся, никому не казалось необычным, таких теперь и среди людских детей много было, золотая коса только выдавала ее везде, не было подобных волос у дворовых побирушек, не могло быть, и приходилось жить в семьях, молчать в женские глаза, снова слышать визгливый смех, понимать, что Зверь никогда не найдет ее здесь, даже если будет искать, ему просто в голову не придет, что хоть кто-то из ее народа способен выжить в этих домах грязно-желтого цвета, где всегда пахнет гнилой водой и жареной рыбой, запах жареной рыбы она не выносила, рыбу вообще видеть не могла, так у нее и осталась эта связка в голове - жареная рыба в протухшей воде, от одной мысли об этом желудок выворачивался наизнанку.
![]() Слишком задержалась она здесь, в тополином пуху, в липовом цвету, заблудилась в мостах и деревьях, заговорила иначе, не туда вышла, когда вернулась - сказала лишнее. Сколько раз повторяла себе - не говори, никогда ничего не говори, а тут - не удержалась, то ли небо было синее обычного, то ли река нашептала недоброе. То ли устала прятаться и не помнить, не знать, не видеть, не жить и не умирать, так устала, что река подошла к самым глазам, небо забило горло, ни вдохнуть, ни выдохнуть, а люди ведь цепкие, сразу схватились за нее, принялись трясти, вытрясать как можно больше, им всегда интересно чужое, чтобы потом поставить на него клеймо "не бывает" - видела она эти заспиртованные препараты, знала, куда они прячут свои сны, кто ее за язык дернул?
Слишком задержалась она здесь, в тополином пуху, в липовом цвету, заблудилась в мостах и деревьях, заговорила иначе, не туда вышла, когда вернулась - сказала лишнее. Сколько раз повторяла себе - не говори, никогда ничего не говори, а тут - не удержалась, то ли небо было синее обычного, то ли река нашептала недоброе. То ли устала прятаться и не помнить, не знать, не видеть, не жить и не умирать, так устала, что река подошла к самым глазам, небо забило горло, ни вдохнуть, ни выдохнуть, а люди ведь цепкие, сразу схватились за нее, принялись трясти, вытрясать как можно больше, им всегда интересно чужое, чтобы потом поставить на него клеймо "не бывает" - видела она эти заспиртованные препараты, знала, куда они прячут свои сны, кто ее за язык дернул?
![]() Ее и раньше трясли, но тогда она другая была, более живая, и Зверь был ближе, и дорога обратно еще была открыта, - по крайней мере, так ей казалось. Трясли много, ничего не вытрясли, научили обходить ловушки.
Ее и раньше трясли, но тогда она другая была, более живая, и Зверь был ближе, и дорога обратно еще была открыта, - по крайней мере, так ей казалось. Трясли много, ничего не вытрясли, научили обходить ловушки.
![]() А сейчас - устала. Тяжело быть подростком, шестьсот ведь с лишним, самый переходный возраст, с точной даты всегда сбивалась, но столетья помнила. Сорвалась, дала довести себя до слез, заснула без сил, а проснулась уже в совсем незнакомом доме. Кровати - рядами, свет не гаснет ни на час, решетки на окнах, двойные - прутья и сетка. Люди лежат или ходят вдоль стенок, друг от друга шарахаются.
А сейчас - устала. Тяжело быть подростком, шестьсот ведь с лишним, самый переходный возраст, с точной даты всегда сбивалась, но столетья помнила. Сорвалась, дала довести себя до слез, заснула без сил, а проснулась уже в совсем незнакомом доме. Кровати - рядами, свет не гаснет ни на час, решетки на окнах, двойные - прутья и сетка. Люди лежат или ходят вдоль стенок, друг от друга шарахаются.
![]() Но это бы ничего. Уходила она и не из таких мест, умела уходить, лишь бы муть эта в голове прошла, что они ей дали выпить такое вчера, что она даже имя свое забыла? И рвань на плечах - ничего, бывало и хуже; и запах этот, насквозь больной запах человеческого безумия - это все можно было пережить, хотя сегодня с утра тоже дали что-то желтое в воде, гадость какую-то, - ведь почти сутки спала и все равно сонная, как осенняя муха.
Но это бы ничего. Уходила она и не из таких мест, умела уходить, лишь бы муть эта в голове прошла, что они ей дали выпить такое вчера, что она даже имя свое забыла? И рвань на плечах - ничего, бывало и хуже; и запах этот, насквозь больной запах человеческого безумия - это все можно было пережить, хотя сегодня с утра тоже дали что-то желтое в воде, гадость какую-то, - ведь почти сутки спала и все равно сонная, как осенняя муха.
![]() Но пока она спала, они отрезали ей волосы. Начисто, под корень.
Но пока она спала, они отрезали ей волосы. Начисто, под корень.
![]() Они отрезали ей волосы, и мать ее теперь просто убьет.
Они отрезали ей волосы, и мать ее теперь просто убьет.