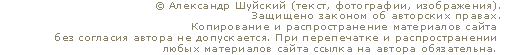к оглавлению
--»
Сказки первого часа ночи
буковки
![]() Ношу и ношу недоумение в голове: как это люди не боятся ложиться спать? Ведь как в гроб - на спину, руки неживые и холодные, подбородок запрокинут, свет погашен, соседская музыка из-за стены как хор далекий и невнятный - кто их знает, пень иль волк. Умирать боятся - спроси любого, эй, ты, молодой-здоровый-сильный-старый-больной-убогий, боишься умирать? - скажет ведь, конечно, боюсь, кто не боится смерти, смерти боятся все, боятся больше, чем Бога, ведь о нем никогда ничего не знаешь наверняка, а смерть - вот она, вокруг и повсюду: в раздавленных голубях, в сбитых машинами кошках, в бомжах, подохших в луже собственной мочи, темной на асфальте, все это каждый день и помногу, стоит только из дому выйти.
Ношу и ношу недоумение в голове: как это люди не боятся ложиться спать? Ведь как в гроб - на спину, руки неживые и холодные, подбородок запрокинут, свет погашен, соседская музыка из-за стены как хор далекий и невнятный - кто их знает, пень иль волк. Умирать боятся - спроси любого, эй, ты, молодой-здоровый-сильный-старый-больной-убогий, боишься умирать? - скажет ведь, конечно, боюсь, кто не боится смерти, смерти боятся все, боятся больше, чем Бога, ведь о нем никогда ничего не знаешь наверняка, а смерть - вот она, вокруг и повсюду: в раздавленных голубях, в сбитых машинами кошках, в бомжах, подохших в луже собственной мочи, темной на асфальте, все это каждый день и помногу, стоит только из дому выйти.
![]() Так почему? Почему, скажи мне, никто не боится засыпать каждый вечер - ведь это точно так же, об этом хорошо знают дети, - дети и сумасшедшие, при здоровых почках и вообще потрохах, они каждую ночь напускают полную постель страха, холодного и мокрого, с дурным запахом. Не бойся, маленький, не бойся, родной, это пройдет, с возрастом, с выздоровлением, с умением вскакивать на горшок среди ночи, как памперс не нужен станет - так, значит, вырос. Дети потом забывают, им взрослые объясняют, что в этом мире как, иначе же спать совсем невозможно, как спать, если знаешь, что это такое - сон? А сумасшедшие помнят, и кричат во сне, и просыпаются со слезами и струйкой слюны в углу рта. Не бойся, маленький, не бойся, родной, это пройдет, вот салфетки, вот успокоительное, мы отобьем твою упрямую память, как отобьется начисто - так, значит, выздоровел.
Так почему? Почему, скажи мне, никто не боится засыпать каждый вечер - ведь это точно так же, об этом хорошо знают дети, - дети и сумасшедшие, при здоровых почках и вообще потрохах, они каждую ночь напускают полную постель страха, холодного и мокрого, с дурным запахом. Не бойся, маленький, не бойся, родной, это пройдет, с возрастом, с выздоровлением, с умением вскакивать на горшок среди ночи, как памперс не нужен станет - так, значит, вырос. Дети потом забывают, им взрослые объясняют, что в этом мире как, иначе же спать совсем невозможно, как спать, если знаешь, что это такое - сон? А сумасшедшие помнят, и кричат во сне, и просыпаются со слезами и струйкой слюны в углу рта. Не бойся, маленький, не бойся, родной, это пройдет, вот салфетки, вот успокоительное, мы отобьем твою упрямую память, как отобьется начисто - так, значит, выздоровел.
![]() Каждое утро мои подобранные на самых разных помойках кошки, которые, сбросив котячий пух, уже не спят никогда, только дремлют, потому что они-то хорошо помнят, что такое сон, - каждое утро они вспрыгивают мне на одеяло и принимаются меня, холодного и неживого, - греть, тормошить, облизывать, тарахтеть, как сверчки за печкой, всячески давая понять, что если я посплю еще немного, уже не проснусь никогда. Если бы не они, я, наверное, уже очень давно не мог бы спать, потому что боюсь не проснуться или проснуться не там, - а будильники я терпеть не могу, такая пародия на трубный глас, мерзкая и дребезжащая, репетиция каждое утро, и кто-то ведь почитает это гарантией, просыпается, вскакивает, бежит на ежедневную репетицию Апокалипсиса - каждый день такого же настоящего, как звон будильника в качестве серебряных труб.
Каждое утро мои подобранные на самых разных помойках кошки, которые, сбросив котячий пух, уже не спят никогда, только дремлют, потому что они-то хорошо помнят, что такое сон, - каждое утро они вспрыгивают мне на одеяло и принимаются меня, холодного и неживого, - греть, тормошить, облизывать, тарахтеть, как сверчки за печкой, всячески давая понять, что если я посплю еще немного, уже не проснусь никогда. Если бы не они, я, наверное, уже очень давно не мог бы спать, потому что боюсь не проснуться или проснуться не там, - а будильники я терпеть не могу, такая пародия на трубный глас, мерзкая и дребезжащая, репетиция каждое утро, и кто-то ведь почитает это гарантией, просыпается, вскакивает, бежит на ежедневную репетицию Апокалипсиса - каждый день такого же настоящего, как звон будильника в качестве серебряных труб.
![]() Я никогда не слышу будильника. Архангелу придется выпускать моих кошек, чтобы поднять меня в Судный День, и то неизвестно, встану ли я.
Я никогда не слышу будильника. Архангелу придется выпускать моих кошек, чтобы поднять меня в Судный День, и то неизвестно, встану ли я.
песенка про меня
![]() Я - перевертыш.
Я - перевертыш.
![]() Меня можно подбросить вверх, как монетку, раскрутить в тугом воздухе, проследить, какой стороной упадет - одной, другой или третьей. Была еще четвертая, но я ее отдал. Сначала, думал, поносить, а потом она так пристроилась хорошо, четвертая сторона моей монеты, что я уж и не помню ее своей, так, было когда-то что-то, нет, не со мной, с тобой, уже тогда с тобой, а я просто знал с самого начала, так получилось.
Меня можно подбросить вверх, как монетку, раскрутить в тугом воздухе, проследить, какой стороной упадет - одной, другой или третьей. Была еще четвертая, но я ее отдал. Сначала, думал, поносить, а потом она так пристроилась хорошо, четвертая сторона моей монеты, что я уж и не помню ее своей, так, было когда-то что-то, нет, не со мной, с тобой, уже тогда с тобой, а я просто знал с самого начала, так получилось.
![]() Я близорук, неумел и, видимо, талантлив. Ничего не могу довести до конца, боюсь собственной тени, особенно когда она смотрит со стены, выше чуть ли не на голову, темная, мрачная, грозит темным пальцем, обещает неприятности за несделанное. Она гоняет меня с теплых насиженных мест мыть посуду, ходить по магазинам и прибирать постель - в тот самый миг, когда мне это больше всего некстати. И почему, ну почему я всегда это делаю за всех троих, ведь талантлив именно я, оставьте меня в покое, дайте поработать, сделайте что-нибудь сами, ведь у меня только треть времени, треть сна, треть головы, причем эта треть всегда отчаянно болит и просит кофе. Но остальным нет до тени никакого дела. Они не в родстве с нею, они не боятся грозящего пальца, им все равно, написан ли у меня курсовой и в каком состоянии квартира, их заботит только одно - две трети моего времени, две трети моей головы, две трети моего давно разбитого натрое сердца.
Я близорук, неумел и, видимо, талантлив. Ничего не могу довести до конца, боюсь собственной тени, особенно когда она смотрит со стены, выше чуть ли не на голову, темная, мрачная, грозит темным пальцем, обещает неприятности за несделанное. Она гоняет меня с теплых насиженных мест мыть посуду, ходить по магазинам и прибирать постель - в тот самый миг, когда мне это больше всего некстати. И почему, ну почему я всегда это делаю за всех троих, ведь талантлив именно я, оставьте меня в покое, дайте поработать, сделайте что-нибудь сами, ведь у меня только треть времени, треть сна, треть головы, причем эта треть всегда отчаянно болит и просит кофе. Но остальным нет до тени никакого дела. Они не в родстве с нею, они не боятся грозящего пальца, им все равно, написан ли у меня курсовой и в каком состоянии квартира, их заботит только одно - две трети моего времени, две трети моей головы, две трети моего давно разбитого натрое сердца.
![]() Чаще всего они напоминают о себе ночью, должно быть потому, что один из них - луна. Его настроения переменчивы, он светел и легок, он всегда в небе, ясный, белый, звонкий, древний, говорящий-с-драконами, безумный сказочник цвета сумерек. Но иногда, особенно осенью или предвещая нелегкую погоду на неделю вперед, он мрачно вползает на бледное от страха небо, багровый, распухший, чумной и чужой. Тогда появляется третий, потому что он старше. Старше луны, старше ветра перемен, старше бледного неба. Он способен стереть безумие с луны белой рукой с тяжелым перстнем на третьем пальце, одного его взгляда довольно, чтобы я пошел мыть посуду, а я - выправлять в дурном настроении написанную сказку. Свою треть слез, страха, неуверенности, неумения и лени он либо ловко разделил между нами, либо скрывает так хорошо, что не найдешь даже с отбойным молотком. Если у луны хорошее настроение, он может все. Он великолепен и неумолим как смерть, как демон безводной пустыни, демон-убийца.
Чаще всего они напоминают о себе ночью, должно быть потому, что один из них - луна. Его настроения переменчивы, он светел и легок, он всегда в небе, ясный, белый, звонкий, древний, говорящий-с-драконами, безумный сказочник цвета сумерек. Но иногда, особенно осенью или предвещая нелегкую погоду на неделю вперед, он мрачно вползает на бледное от страха небо, багровый, распухший, чумной и чужой. Тогда появляется третий, потому что он старше. Старше луны, старше ветра перемен, старше бледного неба. Он способен стереть безумие с луны белой рукой с тяжелым перстнем на третьем пальце, одного его взгляда довольно, чтобы я пошел мыть посуду, а я - выправлять в дурном настроении написанную сказку. Свою треть слез, страха, неуверенности, неумения и лени он либо ловко разделил между нами, либо скрывает так хорошо, что не найдешь даже с отбойным молотком. Если у луны хорошее настроение, он может все. Он великолепен и неумолим как смерть, как демон безводной пустыни, демон-убийца.
![]() И когда эти двое объединяются, им так легко вовсе вытеснить третьего, забить его в темный чулан с паутиной и глупыми старыми игрушками, бескрылого, вечно как бы не при чем, не разумеющего ни слов, ни красок.
Должно быть, поэтому тот я, который в очках и постоянной спешке, так легко впадает в отчаянье, так горько плачет над нелепыми историями несуществующих людей и неживых зверей (как правило, их написали уже давным-давно мертвые люди), так часто не спит по ночам.
Увы мне, Томасу Трейси, мой Тигр далеко, мой кофе несвеж, моя луна вот-вот выйдет из-за туч и я пойму, что нынче она на ущербе.
И когда эти двое объединяются, им так легко вовсе вытеснить третьего, забить его в темный чулан с паутиной и глупыми старыми игрушками, бескрылого, вечно как бы не при чем, не разумеющего ни слов, ни красок.
Должно быть, поэтому тот я, который в очках и постоянной спешке, так легко впадает в отчаянье, так горько плачет над нелепыми историями несуществующих людей и неживых зверей (как правило, их написали уже давным-давно мертвые люди), так часто не спит по ночам.
Увы мне, Томасу Трейси, мой Тигр далеко, мой кофе несвеж, моя луна вот-вот выйдет из-за туч и я пойму, что нынче она на ущербе.
сказка о Питере
![]() Когда меня спрашивают, что будет с этим Городом, я не знаю, что ответить. Отшучиваюсь обычно, посмеиваюсь, говорю глупость какую-нибудь.
Когда меня спрашивают, что будет с этим Городом, я не знаю, что ответить. Отшучиваюсь обычно, посмеиваюсь, говорю глупость какую-нибудь.
![]() Но нынче ночью мне почему-то страшно и холодно внутри, там, ближе к сердцу, и вместо глаз - иглы, и не до смеха мне, а вопрос задан, такой вопрос, который требует ответа, хочу я того или нет, потому что все уже случилось, последняя капля стекла и ударилась оземь - Ледяной Дом стоит на Петропавловке, горит изнутри синим холодным светом, каких еще мне знаков надобно, чтобы сказать наконец правду, пока кости мои не стали водой, а сердце - прозрачной медузой.
Но нынче ночью мне почему-то страшно и холодно внутри, там, ближе к сердцу, и вместо глаз - иглы, и не до смеха мне, а вопрос задан, такой вопрос, который требует ответа, хочу я того или нет, потому что все уже случилось, последняя капля стекла и ударилась оземь - Ледяной Дом стоит на Петропавловке, горит изнутри синим холодным светом, каких еще мне знаков надобно, чтобы сказать наконец правду, пока кости мои не стали водой, а сердце - прозрачной медузой.
![]() Слушайте. Так будет, даже если вам покажется, что будет иначе.
Слушайте. Так будет, даже если вам покажется, что будет иначе.
![]() Первыми из Города уйдут кошки. Потому что всему есть предел, потому что когда из девяти жизней остается всего одна, ею хочется пожить подольше. Они уйдут, а снизу, из всех щелей и подвалов, из дыр, сочащихся теплым туманом, вылезут крысы. Их будут тьмы и тьмы, они будут злы, голодны и доведены до отчаянья. Они накинутся на людей, собак, камни и деревья, их мокрая серая волна сметет все, что не врыто на метр вглубь или не скреплено цементом. Город будет разгрызен крысами, как орех.
Первыми из Города уйдут кошки. Потому что всему есть предел, потому что когда из девяти жизней остается всего одна, ею хочется пожить подольше. Они уйдут, а снизу, из всех щелей и подвалов, из дыр, сочащихся теплым туманом, вылезут крысы. Их будут тьмы и тьмы, они будут злы, голодны и доведены до отчаянья. Они накинутся на людей, собак, камни и деревья, их мокрая серая волна сметет все, что не врыто на метр вглубь или не скреплено цементом. Город будет разгрызен крысами, как орех.
![]() А потом придет вода. Она поднимется снизу, выберется из тишины и тайны под мостами, тихой сапой затопит подвалы, легкой грязной волной переплеснет из окон. Вздохнет глубоко и на этом вздохе потопит тех крыс, которые не успеют сбежать из Города, пьяные от сытости и собственного бешенства. Их серые тельца будет бить и поворачивать поток, идущий над гранитными набережными, над окнами бельэтажей и голландскими крылечками Васильевского острова. Вместе с крысами будет вымыт грязный снег, вынесены помойки, машины и продуктово-газетные ларьки. В Городе останутся вороны и призраки, они будут сидеть на крышах дворцов и доходных домов, в обнимку с зеленоватыми статуями, и глазеть на то, как верхом на Медном всаднике пытаются спастись сумасшедшие с Зеленой Пряжки.
А потом придет вода. Она поднимется снизу, выберется из тишины и тайны под мостами, тихой сапой затопит подвалы, легкой грязной волной переплеснет из окон. Вздохнет глубоко и на этом вздохе потопит тех крыс, которые не успеют сбежать из Города, пьяные от сытости и собственного бешенства. Их серые тельца будет бить и поворачивать поток, идущий над гранитными набережными, над окнами бельэтажей и голландскими крылечками Васильевского острова. Вместе с крысами будет вымыт грязный снег, вынесены помойки, машины и продуктово-газетные ларьки. В Городе останутся вороны и призраки, они будут сидеть на крышах дворцов и доходных домов, в обнимку с зеленоватыми статуями, и глазеть на то, как верхом на Медном всаднике пытаются спастись сумасшедшие с Зеленой Пряжки.
![]() И тогда Ангел с Александрийского столпа раскинет сладостно руки и крылья, потянется всем онемевшим телом и спрыгнет вниз, и пойдет по воде аки посуху, потому что будет окончена его стража. Он уйдет вон из Города вместе с водой, наигрывая на дудочке вслед мертвым крысам, и кто услышит эту дудочку, сможет уйти вместе с ним, неважно, живым или мертвым.
И тогда Ангел с Александрийского столпа раскинет сладостно руки и крылья, потянется всем онемевшим телом и спрыгнет вниз, и пойдет по воде аки посуху, потому что будет окончена его стража. Он уйдет вон из Города вместе с водой, наигрывая на дудочке вслед мертвым крысам, и кто услышит эту дудочку, сможет уйти вместе с ним, неважно, живым или мертвым.
![]() Ангел уйдет, по его следам вернется мороз. Нева встанет намертво, набело, а в прозрачном Ледяном Доме снова загорится синий дьявольский свет и призраки карл и карлиц возьмутся играть прерванную свадьбу.
И нового ангела некому будет поднять на Александрийский столп.
Ангел уйдет, по его следам вернется мороз. Нева встанет намертво, набело, а в прозрачном Ледяном Доме снова загорится синий дьявольский свет и призраки карл и карлиц возьмутся играть прерванную свадьбу.
И нового ангела некому будет поднять на Александрийский столп.
![]() Потому что никто не заметит, как ушел прежний.
Потому что никто не заметит, как ушел прежний.
кровь, луна и цветы
Вы не поверите, Патрик... ©
![]() Мы договорились, да? Мы обговорили все детали, мы не оставили ни одного слепого пятна, мы обо всем договорились, ну почему ты опять плачешь, я не могу так больше, это жестоко и нечестно, в конце концов, так нельзя, я не могу видеть, как ты плачешь, у тебя глаза становятся совсем светлые, как выгоревшая линялая тряпка, почти белыми становятся, этого никто не вынесет, знаешь ли, это нечестно, ты же обещал.
Мы договорились, да? Мы обговорили все детали, мы не оставили ни одного слепого пятна, мы обо всем договорились, ну почему ты опять плачешь, я не могу так больше, это жестоко и нечестно, в конце концов, так нельзя, я не могу видеть, как ты плачешь, у тебя глаза становятся совсем светлые, как выгоревшая линялая тряпка, почти белыми становятся, этого никто не вынесет, знаешь ли, это нечестно, ты же обещал.
![]() Да, не отворачивайся, ты обещал, я хорошо это помню, в конце концов, я же отпустил тебя, когда тебе понадобилось, могут быть у меня свои дела, это неважно, что именно так, а если иначе уже не выходит? Ты же знаешь, я пробовал, я перепробовал все на свете, не осталось такой двери, из которой я не пытался сделать выход, да что там, я пытался сделать выход из таких вещей, которые и дверью-то называть смешно, да, именно так, такие двери даже в форточки бы не приняли, и я перепробовал их все, одну за другой, год за годом, и они сразу переставали быть дверями, как только я открывал их, смешно, правда, подходишь - дверь, тянешь за ручку - дверь, открываешь - все, не дверь. В крайнем случае кувшин. Ты знаешь, меня бы и кроличья нора устроила, это по крайней мере лаз, но даже в кроличью нору мне не удалось превратить ни одну из этих дверей, будь они неладны.
Да, не отворачивайся, ты обещал, я хорошо это помню, в конце концов, я же отпустил тебя, когда тебе понадобилось, могут быть у меня свои дела, это неважно, что именно так, а если иначе уже не выходит? Ты же знаешь, я пробовал, я перепробовал все на свете, не осталось такой двери, из которой я не пытался сделать выход, да что там, я пытался сделать выход из таких вещей, которые и дверью-то называть смешно, да, именно так, такие двери даже в форточки бы не приняли, и я перепробовал их все, одну за другой, год за годом, и они сразу переставали быть дверями, как только я открывал их, смешно, правда, подходишь - дверь, тянешь за ручку - дверь, открываешь - все, не дверь. В крайнем случае кувшин. Ты знаешь, меня бы и кроличья нора устроила, это по крайней мере лаз, но даже в кроличью нору мне не удалось превратить ни одну из этих дверей, будь они неладны.
![]() Эта - последняя, и ты обещал. Не смей, не смей, я ударю тебя сейчас, не смей так смотреть на меня. Ты прекрасно знаешь, что это не конец. Ты прекрасно знаешь, зачем я это делаю, да, в здравом уме и твердой памяти, да, сознательно, да. И мы договорились обо всем, помнишь?
Эта - последняя, и ты обещал. Не смей, не смей, я ударю тебя сейчас, не смей так смотреть на меня. Ты прекрасно знаешь, что это не конец. Ты прекрасно знаешь, зачем я это делаю, да, в здравом уме и твердой памяти, да, сознательно, да. И мы договорились обо всем, помнишь?
![]() Ну, в конце концов, это же не навсегда. Когда-нибудь это завершится иным, и ни ты, ни я не знаем, каково оно будет, это иное, кроме того, что это будет прекрасно и замечательно. Но знаешь, дело совсем не в этом.
Ну, в конце концов, это же не навсегда. Когда-нибудь это завершится иным, и ни ты, ни я не знаем, каково оно будет, это иное, кроме того, что это будет прекрасно и замечательно. Но знаешь, дело совсем не в этом.
![]() Дело в том, что если я побуду здесь и сейчас таким еще какое-то время, я уйду совсем иначе, гораздо хуже уйду, я же чувствую, когда вовсе край, и сам ты это прекрасно слышишь, этот звон невыносимый в жарком летнем мареве, даже ночью, даже на рассвете, когда все вздыхает с облегчением, пережив еще один период тьмы и безвестия, все равно стоит это издевательское зудение, я не могу его больше слышать, у меня что-то лопается в голове, пузыри какие-то вскипают и лопаются, и отдают в уши и глаза, ты тоже заметил, что я стал смаргивать чаще? И ты оглянись, оглянись, пожалуйста, ты посмотри на содержимое их думательных чердачных помещений - там же тараканы и ведра с утопленными котятами, и орущие истошно дети, и пустые шприцы и бутылки, и хлам, жирный грязный хлам, вечно под слоем какой-то сальной копоти, я всегда считал, что не слишком брезглив, но послушай, это же невозможно, о смеси запахов я уже просто ничего не говорю, булавка в кармане больше не помогает - меня постоянно тошнит какой-то слизью, по всем признакам это отравление, но ведь никуда не денешься, я не могу сидеть сутки напролет в четырех стенах.
Дело в том, что если я побуду здесь и сейчас таким еще какое-то время, я уйду совсем иначе, гораздо хуже уйду, я же чувствую, когда вовсе край, и сам ты это прекрасно слышишь, этот звон невыносимый в жарком летнем мареве, даже ночью, даже на рассвете, когда все вздыхает с облегчением, пережив еще один период тьмы и безвестия, все равно стоит это издевательское зудение, я не могу его больше слышать, у меня что-то лопается в голове, пузыри какие-то вскипают и лопаются, и отдают в уши и глаза, ты тоже заметил, что я стал смаргивать чаще? И ты оглянись, оглянись, пожалуйста, ты посмотри на содержимое их думательных чердачных помещений - там же тараканы и ведра с утопленными котятами, и орущие истошно дети, и пустые шприцы и бутылки, и хлам, жирный грязный хлам, вечно под слоем какой-то сальной копоти, я всегда считал, что не слишком брезглив, но послушай, это же невозможно, о смеси запахов я уже просто ничего не говорю, булавка в кармане больше не помогает - меня постоянно тошнит какой-то слизью, по всем признакам это отравление, но ведь никуда не денешься, я не могу сидеть сутки напролет в четырех стенах.
![]() Самое обидное, что ни один запатентованный метод все равно не поможет, как бы все было проще и быстрее, но где я найду змею, которая согласится меня кусать? Разве что это будет совсем, совсем сумасшедшая змея.
Самое обидное, что ни один запатентованный метод все равно не поможет, как бы все было проще и быстрее, но где я найду змею, которая согласится меня кусать? Разве что это будет совсем, совсем сумасшедшая змея.
![]() Ради всех богов, перестань так смотреть. Ты обещал, мы договорились. Вот так. Будь добр, помоги мне. Словно бумажный змей, бьется душа на ветру...
Ради всех богов, перестань так смотреть. Ты обещал, мы договорились. Вот так. Будь добр, помоги мне. Словно бумажный змей, бьется душа на ветру...
любовный многогранник
![]() Ты звонишь еще днем. Ты уже звонила вчера, и опять с каким-то пожаром, я удивлюсь, когда ты позвонишь просто чтобы сказать: слушай, как здорово, у меня все в порядке, - я не слышал от тебя этого уже месяцев восемь, наверное, поэтому сердце у меня каждый раз екает, когда ты звонишь - что там еще могло случиться у тебя, чего еще не случилось?
Ты звонишь еще днем. Ты уже звонила вчера, и опять с каким-то пожаром, я удивлюсь, когда ты позвонишь просто чтобы сказать: слушай, как здорово, у меня все в порядке, - я не слышал от тебя этого уже месяцев восемь, наверное, поэтому сердце у меня каждый раз екает, когда ты звонишь - что там еще могло случиться у тебя, чего еще не случилось?
![]() Ты звонишь и говоришь: я зайду сегодня, да? Да, говорю я, заходи, конечно, и вечером ты являешься - с привычными плюшками и немного виноватой улыбкой, конечно, ты оторвала меня от дела, конечно, это ерунда, конечно, входи, конечно. Последние полгода я чувствую себя такой специальной стенкой, магической стенкой при игре в прятки - добежать, добежать, добежать, хлопнуть ладонью, крикнуть "чур-чура!" - и плюхнуться рядом с довольной физиономией, потому что добежал, спасен, спасен. На этот раз спасен, в следующем раунде побежим заново.
Ты звонишь и говоришь: я зайду сегодня, да? Да, говорю я, заходи, конечно, и вечером ты являешься - с привычными плюшками и немного виноватой улыбкой, конечно, ты оторвала меня от дела, конечно, это ерунда, конечно, входи, конечно. Последние полгода я чувствую себя такой специальной стенкой, магической стенкой при игре в прятки - добежать, добежать, добежать, хлопнуть ладонью, крикнуть "чур-чура!" - и плюхнуться рядом с довольной физиономией, потому что добежал, спасен, спасен. На этот раз спасен, в следующем раунде побежим заново.
![]() И ты добегаешь, хлопаешь ладонью, плюхаешься на стул, соглашаешься на кофе, соглашаешься на мою мрачную морду со скептически скривленным ртом, рассказываешь, рассказываешь. Ты говоришь, я вставляю едкие усталые реплики, мы пьем кофе и закусываем плюшками - после исповеди полагается, кажется, чего-то там пить и чем-то там закусывать, ну, мы в процессе, нехристи оба, что с нас взять. Ты говоришь, ты выговариваешься, а мне до боли в сердце печально смотреть на тебя, потому что под глазами у тебя круги, и смеешься ты отрывисто, и замолкаешь часто, и скачешь с темы на тему, с фразы на фразу, хотя все темы и фразы - все укладываются в три слова: господи, пиздец-то какой. Этот пиздец имеет оттенки, окраски на все случаи - пиздец веселый, окончательный, мрачный, немеряный, сумасшедший, но тем не менее пиздец. Ты уже отлично знаешь, что я скажу тебе на это, я говорил одно и то же много раз, и каждый раз в воздух, потому что ты все равно сделаешь по-своему, а мне только потом придешь рассказать, как странно все получилось, ты и не думала, что все так получится, да, ты говорил еще зимой, но вот чтобы именно так, как ты сказал, и сразу, это просто удивительно. Радость моя, думаю я, радость моя, я же тебя знаю уже десять лет, и двенадцать - того, с кем ты сейчас. Я же почти сросся с тобою, десять лет работая вместе голова к голове, было бы странно не получить этого мучительного родства, пуповины этой общих образов и приемов, мы же иногда даже думаем одинаково, что же тут удивительного? И я любуюсь тобой, такой осунувшейся и похорошевшей, такой суетливой и уверенной в себе, хотя тебе самой еще непривычно в этой уверенности, ты носишь ее, как новую обувь, она еще жмет тебе и натирает, и время от времени ты снимаешь ее и ставишь куда-нибудь в угол, чтобы вы отдохнули друг от друга. Все равно будет так, как ты хочешь, иначе бы я не любил тебя вот уже десять лет, ссорясь и снова мирясь - если сложить в один мешок весь тот кофе, который мы выпили с тобой, хватит на небольшой магазинчик. Твой муж останется в Питере, у тебя все устроится в Москве, с ребятенком вашим тоже что-нибудь придумается, все будет хорошо, я нарисую твоему барашку намордник, только не смейся так горько.
И ты добегаешь, хлопаешь ладонью, плюхаешься на стул, соглашаешься на кофе, соглашаешься на мою мрачную морду со скептически скривленным ртом, рассказываешь, рассказываешь. Ты говоришь, я вставляю едкие усталые реплики, мы пьем кофе и закусываем плюшками - после исповеди полагается, кажется, чего-то там пить и чем-то там закусывать, ну, мы в процессе, нехристи оба, что с нас взять. Ты говоришь, ты выговариваешься, а мне до боли в сердце печально смотреть на тебя, потому что под глазами у тебя круги, и смеешься ты отрывисто, и замолкаешь часто, и скачешь с темы на тему, с фразы на фразу, хотя все темы и фразы - все укладываются в три слова: господи, пиздец-то какой. Этот пиздец имеет оттенки, окраски на все случаи - пиздец веселый, окончательный, мрачный, немеряный, сумасшедший, но тем не менее пиздец. Ты уже отлично знаешь, что я скажу тебе на это, я говорил одно и то же много раз, и каждый раз в воздух, потому что ты все равно сделаешь по-своему, а мне только потом придешь рассказать, как странно все получилось, ты и не думала, что все так получится, да, ты говорил еще зимой, но вот чтобы именно так, как ты сказал, и сразу, это просто удивительно. Радость моя, думаю я, радость моя, я же тебя знаю уже десять лет, и двенадцать - того, с кем ты сейчас. Я же почти сросся с тобою, десять лет работая вместе голова к голове, было бы странно не получить этого мучительного родства, пуповины этой общих образов и приемов, мы же иногда даже думаем одинаково, что же тут удивительного? И я любуюсь тобой, такой осунувшейся и похорошевшей, такой суетливой и уверенной в себе, хотя тебе самой еще непривычно в этой уверенности, ты носишь ее, как новую обувь, она еще жмет тебе и натирает, и время от времени ты снимаешь ее и ставишь куда-нибудь в угол, чтобы вы отдохнули друг от друга. Все равно будет так, как ты хочешь, иначе бы я не любил тебя вот уже десять лет, ссорясь и снова мирясь - если сложить в один мешок весь тот кофе, который мы выпили с тобой, хватит на небольшой магазинчик. Твой муж останется в Питере, у тебя все устроится в Москве, с ребятенком вашим тоже что-нибудь придумается, все будет хорошо, я нарисую твоему барашку намордник, только не смейся так горько.
![]() Ты уже почти выговорилась, мы доели плюшки, и тогда звонит твой муж. Да, ты в Питере, да, до завтра еще пробудешь, где ты, да где обычно, кофе вот пьем. Что значит, что ты там делаешь, опешив, переспрашиваешь ты, и я, в общем, тоже не доношу руку с сигаретой до рта - не прошло и десяти лет, как он, наконец, поинтересовался, что ты у меня делаешь? И тут я взрываюсь, потому что твоего мужа я тоже знаю уже десять лет, и столько же он знает меня, и не далее чем три недели назад он сидел на этой кухне и пил кофе, и говорил о тебе, о себе, говрил печально и обреченно, и жаль его было тем паче, что я точно знал: никакой мой совет, даже самый верный, не поможет, потому что любить - это одно, а быть истерически влюбленным на девятом году совместной жизни - это совсем другое, это вообще мало кто выдержит, но толку-то, что это знаю я, нужно, чтобы это знал он.
Ты уже почти выговорилась, мы доели плюшки, и тогда звонит твой муж. Да, ты в Питере, да, до завтра еще пробудешь, где ты, да где обычно, кофе вот пьем. Что значит, что ты там делаешь, опешив, переспрашиваешь ты, и я, в общем, тоже не доношу руку с сигаретой до рта - не прошло и десяти лет, как он, наконец, поинтересовался, что ты у меня делаешь? И тут я взрываюсь, потому что твоего мужа я тоже знаю уже десять лет, и столько же он знает меня, и не далее чем три недели назад он сидел на этой кухне и пил кофе, и говорил о тебе, о себе, говрил печально и обреченно, и жаль его было тем паче, что я точно знал: никакой мой совет, даже самый верный, не поможет, потому что любить - это одно, а быть истерически влюбленным на девятом году совместной жизни - это совсем другое, это вообще мало кто выдержит, но толку-то, что это знаю я, нужно, чтобы это знал он.
![]() И я свирепею, я громко, так, чтобы было слышно в мобильник, говорю на всю кухню: как что делаем, ебемся, конечно. Ты слышал, говоришь ты, смеясь, потому что это действительно смешно, ты ожидаешь, что он посмеется вместе с нами, он ведь с такой гордостью говорит о своем умении делать хорошую мину при плохой игре. Но мина, видимо, куда хуже игры, плохая, из старых, еще с русско-японской войны, потому что ваш разговор как-то быстро обрывается, а через минуту твой муж звонит на мобильник мне и единственное цензурное слово в его приветственной фразе - местоимение "ты". Я предлагаю ему заняться своими делами и выключаю мобильник.
И я свирепею, я громко, так, чтобы было слышно в мобильник, говорю на всю кухню: как что делаем, ебемся, конечно. Ты слышал, говоришь ты, смеясь, потому что это действительно смешно, ты ожидаешь, что он посмеется вместе с нами, он ведь с такой гордостью говорит о своем умении делать хорошую мину при плохой игре. Но мина, видимо, куда хуже игры, плохая, из старых, еще с русско-японской войны, потому что ваш разговор как-то быстро обрывается, а через минуту твой муж звонит на мобильник мне и единственное цензурное слово в его приветственной фразе - местоимение "ты". Я предлагаю ему заняться своими делами и выключаю мобильник.
![]() - Дети мои, - говорю я в крайней степени бешенства, все эти шесть месяцев бесконечных потоков чужой неустроенности разом выливаются на мою голову, а я бессилен, бессилен и соплив, как жилетка, в которую сморкались полгода беспрерывно, - вы заебали меня, дети мои.
- Дети мои, - говорю я в крайней степени бешенства, все эти шесть месяцев бесконечных потоков чужой неустроенности разом выливаются на мою голову, а я бессилен, бессилен и соплив, как жилетка, в которую сморкались полгода беспрерывно, - вы заебали меня, дети мои.
как от проказницы чумы, запремся так же от зимы...
![]() Чума, чума...
Чума, чума...
![]() Год начинается с крепко запертых дверей и окон, с тщательно заткнутых щелей, с долгой, мучительной осады, и каждое деление красного столбика вниз - проигранный бой, потери, потери, в людях и технике, в тепле и желании жить. И - сводки о сданных крепостях, теперь темных и холодных - на всей Гражданке нет света, в Приморском полопались трубы, нет отопления и газ идет еле-еле, потому что ведь топят все, и чайник закипает ровно четыре с половиной часа... Хорошо, наша крепость старая, стены в метр толщиной, из всех печалей - сжижающийся на морозе газ, который сгорает не весь и потому воняет то ли присадками, то ли дешевой краской.
Год начинается с крепко запертых дверей и окон, с тщательно заткнутых щелей, с долгой, мучительной осады, и каждое деление красного столбика вниз - проигранный бой, потери, потери, в людях и технике, в тепле и желании жить. И - сводки о сданных крепостях, теперь темных и холодных - на всей Гражданке нет света, в Приморском полопались трубы, нет отопления и газ идет еле-еле, потому что ведь топят все, и чайник закипает ровно четыре с половиной часа... Хорошо, наша крепость старая, стены в метр толщиной, из всех печалей - сжижающийся на морозе газ, который сгорает не весь и потому воняет то ли присадками, то ли дешевой краской.
![]() Надобность выйти за чем-то из дома - мусор вынести, хлеба прикупить - вызывает панику, желание лечь и закрыть глаза вызывает, холод поднимается снизу, выползает из-под входной двери, просачивается в щели перекошенных старых рам, откусывает пальцы на руках и ногах - только что были, теперь нету, не чувствуешь их совсем, и тогда одно спасение - побежать, сунуть руки под горячую воду, но ведь уже свернулся клубочком, уже спрятал нос, а пальцев все меньше, от ног непонятно что осталось, на чем теперь бежать к горячей воде? Холодным носом хлюп-хлюп, себя жалко до слез, но не встать, уже на коленки и локти не встать, ведь откроешь тогда живот, последнее средоточие живого тепла, откроешь и потеряешь все, в стылый камень обратишься.
Надобность выйти за чем-то из дома - мусор вынести, хлеба прикупить - вызывает панику, желание лечь и закрыть глаза вызывает, холод поднимается снизу, выползает из-под входной двери, просачивается в щели перекошенных старых рам, откусывает пальцы на руках и ногах - только что были, теперь нету, не чувствуешь их совсем, и тогда одно спасение - побежать, сунуть руки под горячую воду, но ведь уже свернулся клубочком, уже спрятал нос, а пальцев все меньше, от ног непонятно что осталось, на чем теперь бежать к горячей воде? Холодным носом хлюп-хлюп, себя жалко до слез, но не встать, уже на коленки и локти не встать, ведь откроешь тогда живот, последнее средоточие живого тепла, откроешь и потеряешь все, в стылый камень обратишься.
![]() Спасение в том, что нас двое. Да кошки еще - все пятеро. Я тормошу тебя, я пускаю тебе ванну, горячую, изумительную ванну, я разыскиваю грелку, наполняю ее кипятком, - едва держу! - и сую под одеяло. Переживем. Днем я, не дыша, промчался по окрестным магазинам, у нас с тобой запасы - ого-го, полный холодильник всяческих вкусностей, ты подумай, и завтра никуда не надо, а мусорный пакет мы выставим между дверей, он там смерзнется в ледышку и законсервируется, пока я снова куда-нибудь не побегу, вот. А ты пеки пироги, чтобы по всей квартире плыл густой, горячий запах, вари глинтвейн, держи горячим кофе - это все для героя, который снова побежит в холод и ночь и вернется живой и с добычей.
Спасение в том, что нас двое. Да кошки еще - все пятеро. Я тормошу тебя, я пускаю тебе ванну, горячую, изумительную ванну, я разыскиваю грелку, наполняю ее кипятком, - едва держу! - и сую под одеяло. Переживем. Днем я, не дыша, промчался по окрестным магазинам, у нас с тобой запасы - ого-го, полный холодильник всяческих вкусностей, ты подумай, и завтра никуда не надо, а мусорный пакет мы выставим между дверей, он там смерзнется в ледышку и законсервируется, пока я снова куда-нибудь не побегу, вот. А ты пеки пироги, чтобы по всей квартире плыл густой, горячий запах, вари глинтвейн, держи горячим кофе - это все для героя, который снова побежит в холод и ночь и вернется живой и с добычей.
![]() Как от проказницы чумы
Как от проказницы чумы
![]() Запремся также от зимы!
Запремся также от зимы!
![]() Зажжем огни, нальем бокалы...
Зажжем огни, нальем бокалы...
![]() Переживем.
Переживем.
колокол
![]() Это он ее так назвал - Мария. Крестили ее иначе как-то, как, уж не помнит, а давно ли отзывалась на соседские оклики через двор - акающее было имя, а какое, не вспомнить теперь, отвалилось, как головастиков хвост, как позвал он ее первый раз со скрипящей койки, так и провалилось имя старое, черт украл, должно быть, они прыткие, эти, которые вечно под ногами шастают.
Это он ее так назвал - Мария. Крестили ее иначе как-то, как, уж не помнит, а давно ли отзывалась на соседские оклики через двор - акающее было имя, а какое, не вспомнить теперь, отвалилось, как головастиков хвост, как позвал он ее первый раз со скрипящей койки, так и провалилось имя старое, черт украл, должно быть, они прыткие, эти, которые вечно под ногами шастают.
![]() Может, жива была бы соседка, вспомнила бы Мария и имя свое прошлое, и жизнь другую, в которой все было не так, как нынче, но некому было окликнуть, некому напомнить, пусты были дворы, одичалые куры, сперва привычные прятаться, а после снова привычные разгуливать вольготно - только они и бродили по заросшим дворам, шарахаясь вечерами от бесенят. Старое имя, соседка, да и все, кто был в деревне, провалились куда-то вниз, в разверстую красную щель, в ненасытную пасть войны, Мария давно осталась одна в деревне живая, умела прятаться не хуже кур. Линия фронта докатилась до ее деревни, незаметно перевалила и была теперь где-то поблизости, как погост всегда поблизости церкви, но больше далеким грохотом, чем зримой смертью и запустением.
Может, жива была бы соседка, вспомнила бы Мария и имя свое прошлое, и жизнь другую, в которой все было не так, как нынче, но некому было окликнуть, некому напомнить, пусты были дворы, одичалые куры, сперва привычные прятаться, а после снова привычные разгуливать вольготно - только они и бродили по заросшим дворам, шарахаясь вечерами от бесенят. Старое имя, соседка, да и все, кто был в деревне, провалились куда-то вниз, в разверстую красную щель, в ненасытную пасть войны, Мария давно осталась одна в деревне живая, умела прятаться не хуже кур. Линия фронта докатилась до ее деревни, незаметно перевалила и была теперь где-то поблизости, как погост всегда поблизости церкви, но больше далеким грохотом, чем зримой смертью и запустением.
![]() Как и чем жила зиму, за ней весну и лето - не помнила. Она теперь многое не помнила, да и что было с тех воспоминаний корысти - так, ворох прелых осенних листьев, не пригоршня самоцветов. Не помнила даже, как приволокла в дом этого раненного солдатика, красивого и томного в забытье своем, как мертвый Христос на иконах. Вся жизнь, вся память делилась надвое - с того, как он позвал ее: "Мария!" - начался новый счет, день первый, а до него были мрак и пустота и только дух Божий носился над волнами.
Как и чем жила зиму, за ней весну и лето - не помнила. Она теперь многое не помнила, да и что было с тех воспоминаний корысти - так, ворох прелых осенних листьев, не пригоршня самоцветов. Не помнила даже, как приволокла в дом этого раненного солдатика, красивого и томного в забытье своем, как мертвый Христос на иконах. Вся жизнь, вся память делилась надвое - с того, как он позвал ее: "Мария!" - начался новый счет, день первый, а до него были мрак и пустота и только дух Божий носился над волнами.
![]() Ранен он был, нет ли, она не разбирала. Как вволокла в дом и положила, так и лежал он, руки ни разу не поднял. День на третий, что ли, как от его тряпок дурной дух пошел, раздела она его и обмыла, как сумела, и да, крови заскорузлой и грязи на нем было порядочно. А вот так чтобы живая рана, сочащаяся или там что, этого не было, да и не смотрела она, признаться, уж больно страх брал. Отмыла в сумерках до чистого запаха, тем и утешилась. Под слоем грязи оказался он беленький и худенький, в чем только душа держалась.
Ранен он был, нет ли, она не разбирала. Как вволокла в дом и положила, так и лежал он, руки ни разу не поднял. День на третий, что ли, как от его тряпок дурной дух пошел, раздела она его и обмыла, как сумела, и да, крови заскорузлой и грязи на нем было порядочно. А вот так чтобы живая рана, сочащаяся или там что, этого не было, да и не смотрела она, признаться, уж больно страх брал. Отмыла в сумерках до чистого запаха, тем и утешилась. Под слоем грязи оказался он беленький и худенький, в чем только душа держалась.
![]() И зажили они вдвоем, странно зажили, в полутьме и бредовом бормотании, что он, что она. Как будто день и ночь пропали на свете, а вместо них стояли вечные сумерки и только всегдашние бесенята шныряли в этих сумерках под ногами, ища, чего уворовать. Иногда, еще в прошлой жизни, с них польза бывала: увидит Мария, что тащит бесенок в подпол что-то увесистое, надрывается, она его юбкой - ах! - и накроет. Он сквозь пальцы метнется туманом, а брюквина здоровенная или там рыб штук пять на низке - у нее в руках останутся, этого чертенку не уволочь, он только издали весь вечер рожи корчит да мороки всякие подпускает, но Мария к морокам с детства привычная была, вечно ей то дед повесившийся в сенях мерещился, то мать-покойница у колодца. Сколько плюх было за это получено - не сосчитаешь. А как одна осталась да сама себе хозяйка - так и осудить некому.
И зажили они вдвоем, странно зажили, в полутьме и бредовом бормотании, что он, что она. Как будто день и ночь пропали на свете, а вместо них стояли вечные сумерки и только всегдашние бесенята шныряли в этих сумерках под ногами, ища, чего уворовать. Иногда, еще в прошлой жизни, с них польза бывала: увидит Мария, что тащит бесенок в подпол что-то увесистое, надрывается, она его юбкой - ах! - и накроет. Он сквозь пальцы метнется туманом, а брюквина здоровенная или там рыб штук пять на низке - у нее в руках останутся, этого чертенку не уволочь, он только издали весь вечер рожи корчит да мороки всякие подпускает, но Мария к морокам с детства привычная была, вечно ей то дед повесившийся в сенях мерещился, то мать-покойница у колодца. Сколько плюх было за это получено - не сосчитаешь. А как одна осталась да сама себе хозяйка - так и осудить некому.
![]() А ведь он эти мороки тоже видел. То ли глаз ему был такой дан, то ли сумерки помогали. Как обмыла она его, так ему полегчало, он, бывало, даже спал иногда, ровно спал, тихо, не метался. Что у него за сила была, о том Мария гадать не тщилась, а только приживальщики ее вороватые его побаивались. Заметила она это не сразу, во вторую или третью ночь, когда горел ее солдатик адским жаром и стонал так, что сердце разрывалось. Она и сидела над ним, и трав каких-то заваривала, и петь ему пыталась - а что было делать-то? И только к исходу тьмы поняла, что за все это время ни одного мява из углов не раздалось, а вода да чистые тряпки, да щепка для печи - все под рукой вовремя оказывалось. Уж потом, дни спустя, она одного из мелких застала-таки с ковшом в ловких лапах - тащил, надрывался, из высокого ведра зачерпывал, тащил обратно хозяину. Ее увидев, нырнул под половицу, но не удрал, глазел в щель, что станет делать. А она подхватила ковш как ни в чем не бывало, дала напиться солдатику, остатки сама выпила.
А ведь он эти мороки тоже видел. То ли глаз ему был такой дан, то ли сумерки помогали. Как обмыла она его, так ему полегчало, он, бывало, даже спал иногда, ровно спал, тихо, не метался. Что у него за сила была, о том Мария гадать не тщилась, а только приживальщики ее вороватые его побаивались. Заметила она это не сразу, во вторую или третью ночь, когда горел ее солдатик адским жаром и стонал так, что сердце разрывалось. Она и сидела над ним, и трав каких-то заваривала, и петь ему пыталась - а что было делать-то? И только к исходу тьмы поняла, что за все это время ни одного мява из углов не раздалось, а вода да чистые тряпки, да щепка для печи - все под рукой вовремя оказывалось. Уж потом, дни спустя, она одного из мелких застала-таки с ковшом в ловких лапах - тащил, надрывался, из высокого ведра зачерпывал, тащил обратно хозяину. Ее увидев, нырнул под половицу, но не удрал, глазел в щель, что станет делать. А она подхватила ковш как ни в чем не бывало, дала напиться солдатику, остатки сама выпила.
![]() После того добытчиков ловить юбкой надобности не стало - сами волокли и у печки складывали.
После того добытчиков ловить юбкой надобности не стало - сами волокли и у печки складывали.
![]() Вот только никак не вставал он. Уж осень подступала к околице, березы желтеть начинали, они по осени всегда первые. Иногда где-то вдалеке страшно грохотало, с визгом, с разрывами, было понятно, что бои недалеко и что за лето война не кончилась, как не кончилась она и за предыдущее лето, и за лето до него. Тогда она завешивала окна, закрывала ставни, не топила печь - пряталась. Постепенно грохот уходил дальше и слышался все реже, линия фронта тяжело смещалась вглубь страны, но ей не до того было. Свою битву старухе с косой она явно проигрывала, солдатик таял прямо на глазах, как будто смерть забирала его не всего сразу, а потихоньку, исходил под тощим своим одеялом лунным светом и бледен был уже почти в синеву. И тогда она взяла в привычку молиться вечерами - кому и чему неясно, не было у нее заступников ни на земле, ни под землей, разве что Приснодева, тезка нечаянная.
Вот только никак не вставал он. Уж осень подступала к околице, березы желтеть начинали, они по осени всегда первые. Иногда где-то вдалеке страшно грохотало, с визгом, с разрывами, было понятно, что бои недалеко и что за лето война не кончилась, как не кончилась она и за предыдущее лето, и за лето до него. Тогда она завешивала окна, закрывала ставни, не топила печь - пряталась. Постепенно грохот уходил дальше и слышался все реже, линия фронта тяжело смещалась вглубь страны, но ей не до того было. Свою битву старухе с косой она явно проигрывала, солдатик таял прямо на глазах, как будто смерть забирала его не всего сразу, а потихоньку, исходил под тощим своим одеялом лунным светом и бледен был уже почти в синеву. И тогда она взяла в привычку молиться вечерами - кому и чему неясно, не было у нее заступников ни на земле, ни под землей, разве что Приснодева, тезка нечаянная.
![]() И в один из таких вечеров он вдруг заговорил. Тихо и внятно, будто вода наполняла вырытый колодец. "Ты спасешь меня и себя, и всех, если будешь смелой", - сказал он, а глаза были закрыты. "Что?" - спросила она, подхватывая свой платок и повязывая его покрепче. "Колокол, - ответил он, - знаешь ты колокол на холме от старой церкви? Той, которую снесли за пролитую кровь?" Она кивнула, стараясь глядеть на него, а не на пары угольев из темноты всех углов. Ту церковь и правда снесли, но поставили деревянную колокольню с шатровой крышей. Единственный огромный колокол без языка свисал с перекладины, он никогда не звонил.
И в один из таких вечеров он вдруг заговорил. Тихо и внятно, будто вода наполняла вырытый колодец. "Ты спасешь меня и себя, и всех, если будешь смелой", - сказал он, а глаза были закрыты. "Что?" - спросила она, подхватывая свой платок и повязывая его покрепче. "Колокол, - ответил он, - знаешь ты колокол на холме от старой церкви? Той, которую снесли за пролитую кровь?" Она кивнула, стараясь глядеть на него, а не на пары угольев из темноты всех углов. Ту церковь и правда снесли, но поставили деревянную колокольню с шатровой крышей. Единственный огромный колокол без языка свисал с перекладины, он никогда не звонил.
![]() "Ты должна заставить его говорить. Тогда война окончится, а я не умру. И ты не умрешь, но не вернешься". - "Совсем?" - спросила она, но он не ответил. "Я не боюсь", - сказала она. "Ты не вернешься, - повторил он. - Вернусь я. А ты останешься там, останешься навсегда". "Это ничего, - подумала она, молча кивая. - Если все кончится, будет хорошо. Столько лет войны, уж и не упомнишь, три или десять, или сто, - а они уходят все дальше и дальше".
"Ты должна заставить его говорить. Тогда война окончится, а я не умру. И ты не умрешь, но не вернешься". - "Совсем?" - спросила она, но он не ответил. "Я не боюсь", - сказала она. "Ты не вернешься, - повторил он. - Вернусь я. А ты останешься там, останешься навсегда". "Это ничего, - подумала она, молча кивая. - Если все кончится, будет хорошо. Столько лет войны, уж и не упомнишь, три или десять, или сто, - а они уходят все дальше и дальше".
![]() Повернулась, вышла из избы и пошла, сначала по дороге, а потом напрямик через поля, чтобы немного срезать.
Повернулась, вышла из избы и пошла, сначала по дороге, а потом напрямик через поля, чтобы немного срезать.
![]() Идти оказалось куда дольше, чем она помнила. Каким-то убеждением она знала, что сделать нужно все в одну ночь, без единой заминки, и потому шла, не оглядываясь, высоко задрав юбку, потому что та намокла от росы и облепляла ноги, как пелена. Ее голые белые коленки светляками мелькали в траве, а она шла, не замедляя шага и не останавливаясь, полная луна бежала ей сначала в лицо, затем переместилась вбок и провалилась в дальний лес. Уже совсем светало, когда она увидела колокольню на холме и еще прибавила шагу.
Идти оказалось куда дольше, чем она помнила. Каким-то убеждением она знала, что сделать нужно все в одну ночь, без единой заминки, и потому шла, не оглядываясь, высоко задрав юбку, потому что та намокла от росы и облепляла ноги, как пелена. Ее голые белые коленки светляками мелькали в траве, а она шла, не замедляя шага и не останавливаясь, полная луна бежала ей сначала в лицо, затем переместилась вбок и провалилась в дальний лес. Уже совсем светало, когда она увидела колокольню на холме и еще прибавила шагу.
![]() Колокол был на месте, огромный и безъязыкий. Никаким молотом, никаким камнем не смогла бы она добиться от этой махины звука, хотя бы отдаленно похожего на звон. Она искательно оглянулась, даже побродила среди домов деревни - половина из них была сожжена - но, конечно, ничего не нашла. Вернулась к колоколу, в замешательстве похлопала по нему ладонью. Он отозвался заметной дрожью, неслышной, но явной, словно передернулся, как передергивает шкурой лошадь, отгоняя гнус. Войдя под колокол, Мария разглядела кольцо, к которому крепился бы язык, будь он когда-нибудь у этого гиганта. Бормоча что-то про себя, она снова обошла колоколенку (как эта высота уцелела в боях - непонятно, разве что не жгли ее до последнего момента, а потом уж было некому), а потом, решившись, снова взялась обшаривать останки деревни. Когда она вернулась к колоколу, в руках у нее была веревка.
Колокол был на месте, огромный и безъязыкий. Никаким молотом, никаким камнем не смогла бы она добиться от этой махины звука, хотя бы отдаленно похожего на звон. Она искательно оглянулась, даже побродила среди домов деревни - половина из них была сожжена - но, конечно, ничего не нашла. Вернулась к колоколу, в замешательстве похлопала по нему ладонью. Он отозвался заметной дрожью, неслышной, но явной, словно передернулся, как передергивает шкурой лошадь, отгоняя гнус. Войдя под колокол, Мария разглядела кольцо, к которому крепился бы язык, будь он когда-нибудь у этого гиганта. Бормоча что-то про себя, она снова обошла колоколенку (как эта высота уцелела в боях - непонятно, разве что не жгли ее до последнего момента, а потом уж было некому), а потом, решившись, снова взялась обшаривать останки деревни. Когда она вернулась к колоколу, в руках у нее была веревка.
![]() Кто ее надоумил и кто помог продернуть веревку в кольцо - непонятно. Так или иначе, после, может быть, нескольких часов унылой и тяжелой возни, она оказалась внутри колокола, раскачиваясь живым языком в его гулком пространстве. Первый раз ударясь коленками, она чуть не взвыла от боли, но ее накрыло такой мягкой и звучной волной, что она тут же, не дожидаясь, когда стихнет первый отклик, качнулась сильнее. И еще раз. И еще.
Кто ее надоумил и кто помог продернуть веревку в кольцо - непонятно. Так или иначе, после, может быть, нескольких часов унылой и тяжелой возни, она оказалась внутри колокола, раскачиваясь живым языком в его гулком пространстве. Первый раз ударясь коленками, она чуть не взвыла от боли, но ее накрыло такой мягкой и звучной волной, что она тут же, не дожидаясь, когда стихнет первый отклик, качнулась сильнее. И еще раз. И еще.
![]() Очень быстро она оглохла и перестала что-либо соображать, а мир гудел, ревел и стонал вокруг нее, тело ее билось внутри какофонии звуков, земля плясала внизу под черными пятками, вертелась все быстрее и быстрее, раскручивалась, как волчок, сливаясь в одно невнятное пятно. Вытянутые руки онемели и затекли до бесчувствия, если бы она не захлестнула запястья петлей, давно бы не выдержала и разжала бы пальцы, а так веревка держала ее крепко, как Иуду на осине, и качалась, качалась, качалась...
Очень быстро она оглохла и перестала что-либо соображать, а мир гудел, ревел и стонал вокруг нее, тело ее билось внутри какофонии звуков, земля плясала внизу под черными пятками, вертелась все быстрее и быстрее, раскручивалась, как волчок, сливаясь в одно невнятное пятно. Вытянутые руки онемели и затекли до бесчувствия, если бы она не захлестнула запястья петлей, давно бы не выдержала и разжала бы пальцы, а так веревка держала ее крепко, как Иуду на осине, и качалась, качалась, качалась...
* * *
![]() Она открыла глаза.
Она открыла глаза.
![]() - Это же как надо было клею вашего поганого нанюхаться! - выговаривал над ней визгливый бабий голос. - Это музей, понимаете вы, девушка, музей! Ни стыда, ни совести у нонешних, совсем оборзели, простигоссподи! Вот я милицию вызвала, сейчас они приедут за тобой, голубушка, приедут, будь уверена!
- Это же как надо было клею вашего поганого нанюхаться! - выговаривал над ней визгливый бабий голос. - Это музей, понимаете вы, девушка, музей! Ни стыда, ни совести у нонешних, совсем оборзели, простигоссподи! Вот я милицию вызвала, сейчас они приедут за тобой, голубушка, приедут, будь уверена!
![]() Мария приподнялась на локте и огляделась. Колокольни не было. Были два каменных столба, огромный колокол между ними на стальной толстой балке. Табличка желтоватого металла на одном из столбов гласила: "Памяти павших в боях за..." - дальше было не разобрать за юбкой заполошной бабы. Холм с желтоватой травой. Незнакомая церковь на холме поодаль. Зелень деревьев вокруг. И за стеной деревьев - на все стороны и насколько хватало глаз - дома, дома, дома, высоченные городские дома, иные, может, этажей в сто, аж дух захватывало. И перетертая, с кровью, веревка на саднящих запястьях.
Мария приподнялась на локте и огляделась. Колокольни не было. Были два каменных столба, огромный колокол между ними на стальной толстой балке. Табличка желтоватого металла на одном из столбов гласила: "Памяти павших в боях за..." - дальше было не разобрать за юбкой заполошной бабы. Холм с желтоватой травой. Незнакомая церковь на холме поодаль. Зелень деревьев вокруг. И за стеной деревьев - на все стороны и насколько хватало глаз - дома, дома, дома, высоченные городские дома, иные, может, этажей в сто, аж дух захватывало. И перетертая, с кровью, веревка на саднящих запястьях.
![]() Баба все привизгивала над ней, всплескивала руками, а Мария смотрела на мозаику над церковным алтарем - там, из слюды иперламутра сотканный, вставал из каменного гроба ее солдатик, именно такой,каким она его помнила, больной и бледный, и других мыслей не было в голове,кроме единственной и маловнятной: "Получилось... у нас получилось."
Баба все привизгивала над ней, всплескивала руками, а Мария смотрела на мозаику над церковным алтарем - там, из слюды иперламутра сотканный, вставал из каменного гроба ее солдатик, именно такой,каким она его помнила, больной и бледный, и других мыслей не было в голове,кроме единственной и маловнятной: "Получилось... у нас получилось."