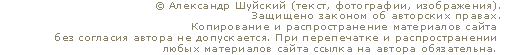к оглавлению
--»
Сестры
![]() Всегда, сколько нас помню, я ненавидела ее и во всем ей потакала.
Всегда, сколько нас помню, я ненавидела ее и во всем ей потакала.
![]() Младшая.
Младшая.
![]() У нее было все, что она хотела. Нет, не так. У нее немедленно оказывалось то, что она захочет. Самыми разными способами, не только через меня, хотя через меня, конечно, шло много. На меня она смотрела наглым, чуть сощуренным взглядом, что, мол, ты станешь делать, если я буду настаивать? Мы обе хорошо знали – я пойду на все, лишь бы ее не несло. Потому что со мной она настаивала всегда одним и тем же образом: получив отказ, она опускала свои длиннющие, пшеничного цвета ресницы, тихо говорила «хорошо» и после этого ждала. Пока я не расслаблюсь, пока не решу, что гроза миновала, пока не устроюсь уютно, уже в конце дня, с чашкой кофе и журналом. И вот тогда, обычно глубокой ночью, она садилась на полу напротив меня и принималась визжать. Это был не каприз. Это была месть, точно расчитанная и поданная в момент моей беспомощности. Ну и, конечно, в тот момент, когда я действительно никак не могла предоставить ей желаемое – однажды такая истерика была мне устроена через два дня после того, как мы уехали с курорта, и ни за какие деньги я не достала бы ей в осеннем городе связку бус из разноцветных ракушек. Два дня она выжидала, как удав в засаде, а потом полночи визжала о том, какая я бездушная, эгоистичная, мелочная и жадная.
У нее было все, что она хотела. Нет, не так. У нее немедленно оказывалось то, что она захочет. Самыми разными способами, не только через меня, хотя через меня, конечно, шло много. На меня она смотрела наглым, чуть сощуренным взглядом, что, мол, ты станешь делать, если я буду настаивать? Мы обе хорошо знали – я пойду на все, лишь бы ее не несло. Потому что со мной она настаивала всегда одним и тем же образом: получив отказ, она опускала свои длиннющие, пшеничного цвета ресницы, тихо говорила «хорошо» и после этого ждала. Пока я не расслаблюсь, пока не решу, что гроза миновала, пока не устроюсь уютно, уже в конце дня, с чашкой кофе и журналом. И вот тогда, обычно глубокой ночью, она садилась на полу напротив меня и принималась визжать. Это был не каприз. Это была месть, точно расчитанная и поданная в момент моей беспомощности. Ну и, конечно, в тот момент, когда я действительно никак не могла предоставить ей желаемое – однажды такая истерика была мне устроена через два дня после того, как мы уехали с курорта, и ни за какие деньги я не достала бы ей в осеннем городе связку бус из разноцветных ракушек. Два дня она выжидала, как удав в засаде, а потом полночи визжала о том, какая я бездушная, эгоистичная, мелочная и жадная.
![]() А ведь если бы ей действительно хотелось эти бусы, она получила бы их за пять минут, без всякого моего вмешательства. Люди просто дарили ей то, что она хотела. Просто дарили и все, и еще и чувствовали себя при этом чуть ли не волхвами над колыбелью Спасителя, я же видела их лица.
Младшая никогда не была красива, зато ее обаяния хватило бы на выводок очень пушистых котят. Или зайчиков – говорят, они просто излучают потребность в любви и заботе, так что даже самые черствые души тают, как кусок масла на сковородке. Стоило ей с самым невинным видом похлопать пшеничными ресницами и дать понять, что вот именно эта вещь именно от этого человека сделает ее невыносимо счастливой до неба, как она тут же получала желаемое. Ей дарили игрушки, деньги и драгоценности. Ей приносили одежду и еду – на улице, к двери квартиры, в номер отеля. Если мы ехали куда-то вдвоем, можно было смело заказывать самую дешевую комнату. Либо оказывалось, что при заказе что-то напутали, и этот номер занят, поэтому отель с тысячью извинений предоставляет нам апартаменты люкс и бутылку вина от заведения, либо администратор завороженно предлагал просто так поселить нас в пентхаузе, потому что из нашего номера, видите ли, не очень интересный вид. Шоферы попуток делали огромный крюк, лишь бы довезти ее туда, куда ей нужно. Продавцы в магазине на ее «понимаете, мне нужна одна ручка, а тут в упаковке пять» кидались со всех ног в подсобку, находили порванную упаковку, вынимали из нее ручку и говорили: за треть цены, потому что упаковка повреждена. И едва не обмирали от счастья, когда она лучезарно улыбалась в ответ. И так всегда, везде, со всеми. Кроме меня.
А ведь если бы ей действительно хотелось эти бусы, она получила бы их за пять минут, без всякого моего вмешательства. Люди просто дарили ей то, что она хотела. Просто дарили и все, и еще и чувствовали себя при этом чуть ли не волхвами над колыбелью Спасителя, я же видела их лица.
Младшая никогда не была красива, зато ее обаяния хватило бы на выводок очень пушистых котят. Или зайчиков – говорят, они просто излучают потребность в любви и заботе, так что даже самые черствые души тают, как кусок масла на сковородке. Стоило ей с самым невинным видом похлопать пшеничными ресницами и дать понять, что вот именно эта вещь именно от этого человека сделает ее невыносимо счастливой до неба, как она тут же получала желаемое. Ей дарили игрушки, деньги и драгоценности. Ей приносили одежду и еду – на улице, к двери квартиры, в номер отеля. Если мы ехали куда-то вдвоем, можно было смело заказывать самую дешевую комнату. Либо оказывалось, что при заказе что-то напутали, и этот номер занят, поэтому отель с тысячью извинений предоставляет нам апартаменты люкс и бутылку вина от заведения, либо администратор завороженно предлагал просто так поселить нас в пентхаузе, потому что из нашего номера, видите ли, не очень интересный вид. Шоферы попуток делали огромный крюк, лишь бы довезти ее туда, куда ей нужно. Продавцы в магазине на ее «понимаете, мне нужна одна ручка, а тут в упаковке пять» кидались со всех ног в подсобку, находили порванную упаковку, вынимали из нее ручку и говорили: за треть цены, потому что упаковка повреждена. И едва не обмирали от счастья, когда она лучезарно улыбалась в ответ. И так всегда, везде, со всеми. Кроме меня.
![]() Ее «хочу» повергало меня в панику. Все видели в ней высшее существо, служить которому – единственное счастье человека, я видела – капризную, злую девицу, от которой в любой момент можно ожидать чего угодно. Потому что такой она и была, просто от меня она это не скрывала, я же никуда не денусь и все равно в итоге сделаю так, как она хочет. И она никогда, никогда не чувствовала ни малейших угрызений совести по этому поводу. Совесть нам небеса выдали одну на двоих, и она была у меня. И всю тяжесть человеческого сердца нам тоже выдали одну на двоих. Я была как вода, тяжелая и холодная, а Младшая вечно скакала невесомым солнечным зайчиком.
Ее «хочу» повергало меня в панику. Все видели в ней высшее существо, служить которому – единственное счастье человека, я видела – капризную, злую девицу, от которой в любой момент можно ожидать чего угодно. Потому что такой она и была, просто от меня она это не скрывала, я же никуда не денусь и все равно в итоге сделаю так, как она хочет. И она никогда, никогда не чувствовала ни малейших угрызений совести по этому поводу. Совесть нам небеса выдали одну на двоих, и она была у меня. И всю тяжесть человеческого сердца нам тоже выдали одну на двоих. Я была как вода, тяжелая и холодная, а Младшая вечно скакала невесомым солнечным зайчиком.
![]() Я восхищалась ею на людях и ненавидела ее, когда мы оставались вдвоем. Она вертела всеми, как хотела, и мной в том числе, только почему-то всем от этого становилось хорошо, а у меня в глазах темнело от ярости.
Я восхищалась ею на людях и ненавидела ее, когда мы оставались вдвоем. Она вертела всеми, как хотела, и мной в том числе, только почему-то всем от этого становилось хорошо, а у меня в глазах темнело от ярости.
![]() Больше всего мне доставалось, когда мы сидели вдвоем дома. Поэтому я старалась как можно больше ездить. Во-первых, с такой спутницей, как Младшая, в поездках все устраивалось легко и быстро, а во-вторых, она немного мягчела в незнакомых городах. Я брала в своей конторе очередной перевод, и мы уезжали. Но стоит все же сказать ради справедливости: мои переводы давали меньше, чем ее статьи в глянец и картинки. Она делала и то, и другое с раздражающей нерегулярностью, зато каждый раз их буквально с руками отрывали. И платили совсем не так, как мне.
Больше всего мне доставалось, когда мы сидели вдвоем дома. Поэтому я старалась как можно больше ездить. Во-первых, с такой спутницей, как Младшая, в поездках все устраивалось легко и быстро, а во-вторых, она немного мягчела в незнакомых городах. Я брала в своей конторе очередной перевод, и мы уезжали. Но стоит все же сказать ради справедливости: мои переводы давали меньше, чем ее статьи в глянец и картинки. Она делала и то, и другое с раздражающей нерегулярностью, зато каждый раз их буквально с руками отрывали. И платили совсем не так, как мне.
![]() В поездках на мне было все – деньги, билеты, отели, наши вещи. Младшей была неинтересна «эта возня», она носилась по новым улицам, заглядывала во все дворы, знакомилась с кошками, птицами и аборигенами, немедленно находила со всеми общий язык и явно была счастлива. По крайней мере – первые три-четыре дня. Как только она начинала уставать, следовало как можно скорее менять город. Стоило мне упустить момент, и ангел превращался в стерву. И хорошо еще, если мишенью была я, а не окружающие.
В поездках на мне было все – деньги, билеты, отели, наши вещи. Младшей была неинтересна «эта возня», она носилась по новым улицам, заглядывала во все дворы, знакомилась с кошками, птицами и аборигенами, немедленно находила со всеми общий язык и явно была счастлива. По крайней мере – первые три-четыре дня. Как только она начинала уставать, следовало как можно скорее менять город. Стоило мне упустить момент, и ангел превращался в стерву. И хорошо еще, если мишенью была я, а не окружающие.
![]() Шел как раз четвертый день в маленьком городке в Каталонии, я даже нашла уже новое местечко, в которое мы могли бы отправиться, наутро как раз был подходящий поезд. На самом деле, у меня наготове всегда было несколько новых мест. Везде и всюду я возила с собой две записные книжки, настоящие молескины, с карманами и тугой резинкой поперк пухлого переплета. В одной, в мелкую клетку, я записывала все возможные планы, и на ближайшие дни, и на когда-нибудь, - даже сны и мечты, пусть и самые дурацкие типа дома на краю теплого моря. Когда план осуществлялся, я обводила страничку цветными гелевыми ручками, рисовала всякие глупости: сердечки, золотые завитушки, звездочки. И писала что-нибудь новое на чистой странице далеко впереди. А вторая тетрадка была мой штатный ежедневник, в нем были сроки переводов, телефоны редакторов, издательств и моей парикмахерши, словом, чисто деловые заметки, без которых не может прожить женщина и внештатный переводчик. Когда мне становилось особенно тоскливо, я (убедившись, что Младшая в ванне или спит) брала их в руки, листала и гладила, и смотрела на то, что уже сделано и то, что еще хочется сделать.
Шел как раз четвертый день в маленьком городке в Каталонии, я даже нашла уже новое местечко, в которое мы могли бы отправиться, наутро как раз был подходящий поезд. На самом деле, у меня наготове всегда было несколько новых мест. Везде и всюду я возила с собой две записные книжки, настоящие молескины, с карманами и тугой резинкой поперк пухлого переплета. В одной, в мелкую клетку, я записывала все возможные планы, и на ближайшие дни, и на когда-нибудь, - даже сны и мечты, пусть и самые дурацкие типа дома на краю теплого моря. Когда план осуществлялся, я обводила страничку цветными гелевыми ручками, рисовала всякие глупости: сердечки, золотые завитушки, звездочки. И писала что-нибудь новое на чистой странице далеко впереди. А вторая тетрадка была мой штатный ежедневник, в нем были сроки переводов, телефоны редакторов, издательств и моей парикмахерши, словом, чисто деловые заметки, без которых не может прожить женщина и внештатный переводчик. Когда мне становилось особенно тоскливо, я (убедившись, что Младшая в ванне или спит) брала их в руки, листала и гладила, и смотрела на то, что уже сделано и то, что еще хочется сделать.
![]() Шел четвертый день, и за Младшей нужно было послеживать. Но утро выдалось солнечное, мы обе выспались, после завтрака договорились дойти до моря, может быть, даже окунуть ноги. И я как-то пропустила тот момент, когда она сказала: пойдем завтракать в новое место, так интереснее. Пропустила, согласилась. И поплатилась сполна.
Шел четвертый день, и за Младшей нужно было послеживать. Но утро выдалось солнечное, мы обе выспались, после завтрака договорились дойти до моря, может быть, даже окунуть ноги. И я как-то пропустила тот момент, когда она сказала: пойдем завтракать в новое место, так интереснее. Пропустила, согласилась. И поплатилась сполна.
![]() Весь завтрак Младшая ерзала, ничего не доела, а когда принесли десерт, скорчила кислую мину, расковыряла мороженное и позвала официанта.
Весь завтрак Младшая ерзала, ничего не доела, а когда принесли десерт, скорчила кислую мину, расковыряла мороженное и позвала официанта.
![]() Когда я злюсь, у меня буквально темнеет в глазах. В ушах поднимается звон, я все слышу как сквозь слой ваты. И вот, полуоглохшая, ослепшая, я сижу на своем стуле и слышу, как Младшая требует управляющего, потому что ей подали не тот десерт. Это неважно, что она его разворотила, она заказывала не это, и пусть это унесут, и принесут другое, и черта с два она будет платить за оба сразу.
Когда я злюсь, у меня буквально темнеет в глазах. В ушах поднимается звон, я все слышу как сквозь слой ваты. И вот, полуоглохшая, ослепшая, я сижу на своем стуле и слышу, как Младшая требует управляющего, потому что ей подали не тот десерт. Это неважно, что она его разворотила, она заказывала не это, и пусть это унесут, и принесут другое, и черта с два она будет платить за оба сразу.
![]() Если бы она хотела другой десерт, она бы его получила. Но она хотела скандала. И у меня в ушах звенело все сильнее, и я почти не слышала, что говорит управляющий, и в отчаяньи затрясла головой, и тогда в ней что-то прояснилось, и я увидела абсолютно спокойного мужчину в костюме и при галстуке, и красную от злости Младшую.
Если бы она хотела другой десерт, она бы его получила. Но она хотела скандала. И у меня в ушах звенело все сильнее, и я почти не слышала, что говорит управляющий, и в отчаяньи затрясла головой, и тогда в ней что-то прояснилось, и я увидела абсолютно спокойного мужчину в костюме и при галстуке, и красную от злости Младшую.
![]() - ...даже не платить за весь завтрак, - ровно произнес мужчина. – Я могу себе это позволить, это частный ресторан. Но вы немедленно выйдете отсюда вон.
- ...даже не платить за весь завтрак, - ровно произнес мужчина. – Я могу себе это позволить, это частный ресторан. Но вы немедленно выйдете отсюда вон.
![]() - Я заплачу, - пролепетала я еле слышно, - заплачу за нас обеих, - но тут Младшая молча встала из-за стола, взяла вазочку со злополучным мороженным и перевернула ее, как переворачивают песочные часы.
- Я заплачу, - пролепетала я еле слышно, - заплачу за нас обеих, - но тут Младшая молча встала из-за стола, взяла вазочку со злополучным мороженным и перевернула ее, как переворачивают песочные часы.
![]() Мороженное плюхнулось на пол, на мои сандалии и черные начищенные ботинки. Младшая все так же молча вскинула на плечо наши рюкзаки и вышла. А я словно примерзла к стулу.
Мороженное плюхнулось на пол, на мои сандалии и черные начищенные ботинки. Младшая все так же молча вскинула на плечо наши рюкзаки и вышла. А я словно примерзла к стулу.
![]() - Извините, - выдавила я. – На нее иногда... находит. Я заплачу. Не беспокойтесь, пожалуйста, я заплачу, и даже уберу, если надо.
- Извините, - выдавила я. – На нее иногда... находит. Я заплачу. Не беспокойтесь, пожалуйста, я заплачу, и даже уберу, если надо.
![]() Я едва подняла глаза. На меня было обращено смуглое, узкое лицо, птичий нос, глаза немного навыкате. И выражало это лицо одно только сочувствующее понимание.
Я едва подняла глаза. На меня было обращено смуглое, узкое лицо, птичий нос, глаза немного навыкате. И выражало это лицо одно только сочувствующее понимание.
![]() - Ничего, - сказал он. – У нас довольно часто дети роняют на пол мороженное. Ничего страшного. Это ваша сестра?
- Ничего, - сказал он. – У нас довольно часто дети роняют на пол мороженное. Ничего страшного. Это ваша сестра?
![]() - Да, младшая.
- Да, младшая.
![]() - Вот ваш счет. Я велел вычесть ее завтрак, как обещал. Вот. Кофе и коньяк за счет заведения. У меня был младший брат. Так что я все понимаю.
- Вот ваш счет. Я велел вычесть ее завтрак, как обещал. Вот. Кофе и коньяк за счет заведения. У меня был младший брат. Так что я все понимаю.
![]() Я подумала, что хочу спросить, где теперь его младший брат, но думала слишком долго – он уже ушел. Я проглотила коньяк, выпила кофе, оставила баснословные чаевые и вышла из кафе. В голове у меня все еще звенело. Младшей нигде не было видно. Но из двора через улицу доносилась песенка, которую она всегда пела, если была в прекрасном настроении. А еще оттуда тянуло паленым.
Я подумала, что хочу спросить, где теперь его младший брат, но думала слишком долго – он уже ушел. Я проглотила коньяк, выпила кофе, оставила баснословные чаевые и вышла из кафе. В голове у меня все еще звенело. Младшей нигде не было видно. Но из двора через улицу доносилась песенка, которую она всегда пела, если была в прекрасном настроении. А еще оттуда тянуло паленым.
![]() Я вошла во двор. Он был пустой и какой-то гулкий, окна в домах начинались от третьего-четвертого этажа, и все вместе походило на двор какой-то крепости. В углу была загородка с мусорными баками, баков в ней не было, зато горел костер. Из обломков мебели, картонок и тряпок, каких-то старых книг, паркета, невесть чего. И вся эта куча полыхала так, будто ее облили маслом. Младшая отбросила в костер бутылку из-под скипидара (та коротко рявкнула, взрываясь и разбиваясь одновременно), обернулась, увидела меня и подскочила ко мне, радостная, как птичка.
Я вошла во двор. Он был пустой и какой-то гулкий, окна в домах начинались от третьего-четвертого этажа, и все вместе походило на двор какой-то крепости. В углу была загородка с мусорными баками, баков в ней не было, зато горел костер. Из обломков мебели, картонок и тряпок, каких-то старых книг, паркета, невесть чего. И вся эта куча полыхала так, будто ее облили маслом. Младшая отбросила в костер бутылку из-под скипидара (та коротко рявкнула, взрываясь и разбиваясь одновременно), обернулась, увидела меня и подскочила ко мне, радостная, как птичка.
![]() - Держи. – Она протянула мне незнакомый рюкзак, очень хороший, из мягкой коричневой кожи. - Мне было так мерзко, что я все спалила. Но твои вещи я все вынула, ты не беспокойся.
- Держи. – Она протянула мне незнакомый рюкзак, очень хороший, из мягкой коричневой кожи. - Мне было так мерзко, что я все спалила. Но твои вещи я все вынула, ты не беспокойся.
![]() Я действительно вижу, что она одета во все новое и чужое. Я не знаю, откуда она взяла эти вещи, да мне и нет до этого никакого дела. Прямыми, артритными пальцами я тяну завязки рюкзака, но уже знаю, что в нем, вернее, чего в нем нет, и у меня по лицу тут же бегут слезы, вскипают и текут вниз, как убегающий кофе.
Я действительно вижу, что она одета во все новое и чужое. Я не знаю, откуда она взяла эти вещи, да мне и нет до этого никакого дела. Прямыми, артритными пальцами я тяну завязки рюкзака, но уже знаю, что в нем, вернее, чего в нем нет, и у меня по лицу тут же бегут слезы, вскипают и текут вниз, как убегающий кофе.
![]() - Послушай, - говорю я, и мну в руках пакет с кофтой, сигаретами и еще какими-то мелочами, - послушай, у меня в рюкзаке во внутреннем кармане были записные книжки.
- Послушай, - говорю я, и мну в руках пакет с кофтой, сигаретами и еще какими-то мелочами, - послушай, у меня в рюкзаке во внутреннем кармане были записные книжки.
![]() Ее лицо гаснет так, будто в ней выключили свет. Она молча смотрит на меня, и я понимаю, что она слышит о них впервые в жизни. Что ей и в голову не приходило, будто я что-то прячу. Что в моем рюкзаке есть внутренний карман, а в нем – то, над чем я буду рыдать с такой силой.
Ее лицо гаснет так, будто в ней выключили свет. Она молча смотрит на меня, и я понимаю, что она слышит о них впервые в жизни. Что ей и в голову не приходило, будто я что-то прячу. Что в моем рюкзаке есть внутренний карман, а в нем – то, над чем я буду рыдать с такой силой.
![]() Я и сама не знаю, почему реву. Но не могу остановиться. Я буквально трясусь от рыданий. Я подхожу к костру, пламя уже утихает, обваливаются прогоревшие мелкие доски, сгоревшие тряпки оседают на них жирной пленкой копоти. Я сажусь на корточки и пытаюсь рассмотреть в золе хоть что-нибудь, отлично зная, что ничего не увижу. Где-то там внутри сжимаются и обугливаются мои записки, и весь тот хаос, который они сдерживали во мне и вокруг меня, обрушивается мне на голову, на горло, на плечи, у меня болит все тело, я едва могу дышать, и уже не плачу, а вою, хотя было бы из-за чего, все деньги и документы аккуратно переложены Младшей в новый рюкзак, она иногда бывает удивительно педантична.
Я и сама не знаю, почему реву. Но не могу остановиться. Я буквально трясусь от рыданий. Я подхожу к костру, пламя уже утихает, обваливаются прогоревшие мелкие доски, сгоревшие тряпки оседают на них жирной пленкой копоти. Я сажусь на корточки и пытаюсь рассмотреть в золе хоть что-нибудь, отлично зная, что ничего не увижу. Где-то там внутри сжимаются и обугливаются мои записки, и весь тот хаос, который они сдерживали во мне и вокруг меня, обрушивается мне на голову, на горло, на плечи, у меня болит все тело, я едва могу дышать, и уже не плачу, а вою, хотя было бы из-за чего, все деньги и документы аккуратно переложены Младшей в новый рюкзак, она иногда бывает удивительно педантична.
![]() Младшая внезапно садится на корточки рядом со мной и прижимается ко мне всем телом, и я чувствую, что ее трясет, как щенка.
Младшая внезапно садится на корточки рядом со мной и прижимается ко мне всем телом, и я чувствую, что ее трясет, как щенка.
![]() - Прости, - говорит она. – Я не знала. Прости меня.
- Прости, - говорит она. – Я не знала. Прости меня.