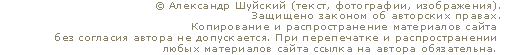к оглавлению
--»
Петра
![]() Две тысячи триста восемьдесят четыре голубя на пьяцца Сан Марко.
Две тысячи триста восемьдесят четыре голубя на пьяцца Сан Марко.
![]() Голубь Лада, голубь Клара, голубь Джонни, голубь Вита, голубь Александретта.
Голубь Лада, голубь Клара, голубь Джонни, голубь Вита, голубь Александретта.
![]() Таков уговор, как говаривал один фонарщик. Нельзя написать «Мадонна Литта», но можно написать «шестьдесят две кошки Эрмитажа» - и перечислить поименно. Нельзя написать «Вестминстер и все сокровища Национальной галереи», зато можно быстренько выписать в столбик: Хугин, Мунин, Гвиллум, Балдрик, Тор и Бранвен. И тогда ночь пройдет, а Тауэр будет стоять на прежнем месте, а вместе с ним – город Лондон, а в нем – и лондонское метро, и Национальная галерея со всеми своими сокровищами, и граненый готический карандаш Биг-Бена.
Таков уговор, как говаривал один фонарщик. Нельзя написать «Мадонна Литта», но можно написать «шестьдесят две кошки Эрмитажа» - и перечислить поименно. Нельзя написать «Вестминстер и все сокровища Национальной галереи», зато можно быстренько выписать в столбик: Хугин, Мунин, Гвиллум, Балдрик, Тор и Бранвен. И тогда ночь пройдет, а Тауэр будет стоять на прежнем месте, а вместе с ним – город Лондон, а в нем – и лондонское метро, и Национальная галерея со всеми своими сокровищами, и граненый готический карандаш Биг-Бена.
![]() Голубь Арно, голубь Дани, голубь Соня, голубь Аделина.
Голубь Арно, голубь Дани, голубь Соня, голубь Аделина.
![]() Считать голубей приходилось часто, не меньше дюжины раз за год. Десять месяцев в году стеклянистый зеленый язык лагуны облизывал набережные Островов нежно, как любимое мороженое. Но зимой вода наливалась тьмой и злобой, врывалась в город, грызла двери и балконные решетки, рычала, стонала и выла, и тогда Петра садилась в темной комнате за письменный стол, доставала новую тетрадь, выводила на первой странице число, всякий раз другое, но всякий раз больше двух тысяч. А потом всю ночь выписывала имена. Под конец ночи рука немела, шея затекала, имена путались, и ей приходилось заглядывать на предыдущие страницы, чтобы не повторить одно и то же дважды. Куда как проще было с Лондоном – шесть имен воронов, делов-то. Только вот с Лондоном неприятности случались куда реже, чем с Островами.
Считать голубей приходилось часто, не меньше дюжины раз за год. Десять месяцев в году стеклянистый зеленый язык лагуны облизывал набережные Островов нежно, как любимое мороженое. Но зимой вода наливалась тьмой и злобой, врывалась в город, грызла двери и балконные решетки, рычала, стонала и выла, и тогда Петра садилась в темной комнате за письменный стол, доставала новую тетрадь, выводила на первой странице число, всякий раз другое, но всякий раз больше двух тысяч. А потом всю ночь выписывала имена. Под конец ночи рука немела, шея затекала, имена путались, и ей приходилось заглядывать на предыдущие страницы, чтобы не повторить одно и то же дважды. Куда как проще было с Лондоном – шесть имен воронов, делов-то. Только вот с Лондоном неприятности случались куда реже, чем с Островами.
Но так было надежнее – считать живое. Раньше она могла бы переписать сто восемнадцать островов или даже все четыреста с гаком мостов, и это действовало. Перечислить нечто, присущее только этому месту – казалось бы, чем не самый лучший якорь? Но летом в две тысячи втором, во время небывалого наводнения, она ночь за ночью перечисляла все мосты Праги, все ее синагоги, наконец нашла и переписала всех Големов – от глиняных обломков в Старо-Новой синагоге до мозаики в два цвета, выложенной перед какой-то таверной в Йозефове. А лучше бы сразу начала со слонов в зоопарке. Синагоги-то как раз уцелели.
![]() Голубь Альба, голубь Рико, голубь Тинторетто.
Голубь Альба, голубь Рико, голубь Тинторетто.
![]() Иногда Петра спрашивала себя: ты что, правда думаешь, что это работает? Где у тебя хоть какие-то подтверждения, что работает именно это? Что именно двадцать страниц школьной тетрадки в клеточку, исписанные от руки, могут удержать море? Или пожары? Или вообще хоть что-нибудь?
Иногда Петра спрашивала себя: ты что, правда думаешь, что это работает? Где у тебя хоть какие-то подтверждения, что работает именно это? Что именно двадцать страниц школьной тетрадки в клеточку, исписанные от руки, могут удержать море? Или пожары? Или вообще хоть что-нибудь?
![]() Такие вопросы означали, что она очень устала. Был год, когда не было ничего, кроме этих вопросов, за целый год она не отсидела ни одной ночи. Как назло, в этот год как раз ничего особенного не случилось. То есть выходило, ее тетрадки и впрямь ни на что не влияли. Был год, когда она запретила себе вообще задавать такие вопросы. И уставать тоже запретила. И этот год оказался куда тяжелее того, пустого года.
Такие вопросы означали, что она очень устала. Был год, когда не было ничего, кроме этих вопросов, за целый год она не отсидела ни одной ночи. Как назло, в этот год как раз ничего особенного не случилось. То есть выходило, ее тетрадки и впрямь ни на что не влияли. Был год, когда она запретила себе вообще задавать такие вопросы. И уставать тоже запретила. И этот год оказался куда тяжелее того, пустого года.
![]() Голубь Титто, голубь Ноли, голубь Филумена.
Голубь Титто, голубь Ноли, голубь Филумена.
![]() Каждый раз она просто знала. «Идет коза рогатая», - говорила она себе, и это мог быть и огонь, и вода, и ветер. «Идет коза рогатая за малыми ребятами», - был такой детский стишок, и года в три боялась она этой козы до обмирания, представляла себе белую рогатую козу с длинной, свалявшейся шерстью, с желтыми глазами, перечеркнутыми веретенами зрачков. Коза просто шла, наклонив голову, глядя снизу вверх, просто шла, но было понятно, что ее не остановит никакая сила, а когда она дойдет до Петры, случится что-то совершенно невыносимое. От козьей мерной поступи желудок холодел, сжимался и уходил куда-то вниз, чуть ли не в пятки.
Каждый раз она просто знала. «Идет коза рогатая», - говорила она себе, и это мог быть и огонь, и вода, и ветер. «Идет коза рогатая за малыми ребятами», - был такой детский стишок, и года в три боялась она этой козы до обмирания, представляла себе белую рогатую козу с длинной, свалявшейся шерстью, с желтыми глазами, перечеркнутыми веретенами зрачков. Коза просто шла, наклонив голову, глядя снизу вверх, просто шла, но было понятно, что ее не остановит никакая сила, а когда она дойдет до Петры, случится что-то совершенно невыносимое. От козьей мерной поступи желудок холодел, сжимался и уходил куда-то вниз, чуть ли не в пятки.
![]() И вот так же ей скручивало желудок, внутри становилось очень холодно и гулко, какое-то время она ходила из угла в угол, словно баюкая камень, в который опять превратился ее живот, а к вечеру точно знала, что ночь будет рабочей. Петра доставала чистые тетрадки, тонкий фломастер, садилась за стол и ждала, когда отпустит. Тогда камень теплел, узел расходился, можно было дышать и даже варить себе кофе, не боясь разбудить мать. Обычно это случалось к часу ночи. А к половине второго Петра точно знала, от кого на сей раз нужно отводить козу рогатую.
И вот так же ей скручивало желудок, внутри становилось очень холодно и гулко, какое-то время она ходила из угла в угол, словно баюкая камень, в который опять превратился ее живот, а к вечеру точно знала, что ночь будет рабочей. Петра доставала чистые тетрадки, тонкий фломастер, садилась за стол и ждала, когда отпустит. Тогда камень теплел, узел расходился, можно было дышать и даже варить себе кофе, не боясь разбудить мать. Обычно это случалось к часу ночи. А к половине второго Петра точно знала, от кого на сей раз нужно отводить козу рогатую.
![]() Голубь Элла, голубь Беппо, голубь Катарина.
Голубь Элла, голубь Беппо, голубь Катарина.
![]() Даже если она делала это только для себя, только для того, чтобы отпустило живот, - почему бы и нет? Кто-то занимается йогой, кто-то – дыхательной гимнастикой, кто-то – ложится в теплую ванну. Ей было легче так. Почему бы нет.
Даже если она делала это только для себя, только для того, чтобы отпустило живот, - почему бы и нет? Кто-то занимается йогой, кто-то – дыхательной гимнастикой, кто-то – ложится в теплую ванну. Ей было легче так. Почему бы нет.
![]() Ярко-желтые квадраты окон загорелись на правой стене, пронеслись по потолку и пропали слева – мимо дома проехала машина. Петра жила без занавесок, а писала при свете уличных фонарей. Сколько себя помнила, она отлично видела в темноте, могла читать и писать просто при свете в окно. Конечно, начиналось все с боли и беспокойства, но все-таки Петра любила эти особые ночи. Когда она писала, мир будто останавливался. Будто на всей планете существовали только она, ее тетрадки и те, кого в этот раз готовилась поглотить темнота. Мир держался на ней. Это было очень хорошее ощущение. Когда ей было лет восемь, она вот так же сидела и переписывала все вещи в своей комнате, каждую куклу, каждую книжку, каждый карандаш в плетеном стакане. Петра перекатывала леденец за щекой, на языке было сладко, а в животе – горько. Живот болел, за стеной сначала отец кричал на маму, потом мама кричала на отца, потом плакала, потом снова кричала, а Петра выводила строчку за строчкой, чуть высунув язык от усердия, тщательно следя за тем, чтобы буквы стояли ровно, а все точки и черточки не лезли друг на друга. К тому моменту, как опись была закончена, боль отпускала, скандал за стенкой стихал, так что Петра не без гордости оглядывала ровные строчки, ставила внизу свое имя – «Петра», - и тоже укладывалась, и спала очень крепко, а наутро просыпалась в прекрасном настроении. Свет у нее никогда не горел, хватало фонарей за окном, и ее ни разу не застукали.
Ярко-желтые квадраты окон загорелись на правой стене, пронеслись по потолку и пропали слева – мимо дома проехала машина. Петра жила без занавесок, а писала при свете уличных фонарей. Сколько себя помнила, она отлично видела в темноте, могла читать и писать просто при свете в окно. Конечно, начиналось все с боли и беспокойства, но все-таки Петра любила эти особые ночи. Когда она писала, мир будто останавливался. Будто на всей планете существовали только она, ее тетрадки и те, кого в этот раз готовилась поглотить темнота. Мир держался на ней. Это было очень хорошее ощущение. Когда ей было лет восемь, она вот так же сидела и переписывала все вещи в своей комнате, каждую куклу, каждую книжку, каждый карандаш в плетеном стакане. Петра перекатывала леденец за щекой, на языке было сладко, а в животе – горько. Живот болел, за стеной сначала отец кричал на маму, потом мама кричала на отца, потом плакала, потом снова кричала, а Петра выводила строчку за строчкой, чуть высунув язык от усердия, тщательно следя за тем, чтобы буквы стояли ровно, а все точки и черточки не лезли друг на друга. К тому моменту, как опись была закончена, боль отпускала, скандал за стенкой стихал, так что Петра не без гордости оглядывала ровные строчки, ставила внизу свое имя – «Петра», - и тоже укладывалась, и спала очень крепко, а наутро просыпалась в прекрасном настроении. Свет у нее никогда не горел, хватало фонарей за окном, и ее ни разу не застукали.
![]() Разошлись родители, когда Петра уехала из своего городка в Сан-Франциско, учиться в Сен-Жиле. Мать потом говорила, что ее будто отпустило. Будто какая-то сила, державшая их брак, взяла и сошла на нет. Два взрослых человека вдруг обнаружили, что им нечего делать вместе, просто удивительно, говорила она. И разошлись мирно, без скандалов, даже с каким-то облегчением. К тому времени Петре было уже не до того, у нее был первый бурный роман, а в тетрадях появлялись списки трамваев старой канатки. Или морских котиков на Пирсе 39, или сувенирных лавок на Фишермен-ворф. Днем они с Майком гуляли по городу, к вечеру непременно ссорились, а к ночи у нее снова болел живот, да так, что даже сидеть приходилось немного согнувшись.
Разошлись родители, когда Петра уехала из своего городка в Сан-Франциско, учиться в Сен-Жиле. Мать потом говорила, что ее будто отпустило. Будто какая-то сила, державшая их брак, взяла и сошла на нет. Два взрослых человека вдруг обнаружили, что им нечего делать вместе, просто удивительно, говорила она. И разошлись мирно, без скандалов, даже с каким-то облегчением. К тому времени Петре было уже не до того, у нее был первый бурный роман, а в тетрадях появлялись списки трамваев старой канатки. Или морских котиков на Пирсе 39, или сувенирных лавок на Фишермен-ворф. Днем они с Майком гуляли по городу, к вечеру непременно ссорились, а к ночи у нее снова болел живот, да так, что даже сидеть приходилось немного согнувшись.
![]() Голубь Нико, голубь Джино, голубь Симонетта.
Голубь Нико, голубь Джино, голубь Симонетта.
![]() Она совсем не знала, нравится Майку или нет. С одной стороны, по всем признакам, она ему нравилась. С другой стороны – можно подумать, она никогда в зеркало не смотрелась. Толстая, нос кнопкой, волосы сухие и торчат во все стороны. Глаза, конечно, яркие, но маленькие, одна радость - кожа. Кожа у нее была - хоть в рекламе снимайся. Нежная, бархатистая, очень светлая. Даже подростком она не знала, что такое прыщи. Зато знала, что такое размер DD применительно к лифчикам.
Она совсем не знала, нравится Майку или нет. С одной стороны, по всем признакам, она ему нравилась. С другой стороны – можно подумать, она никогда в зеркало не смотрелась. Толстая, нос кнопкой, волосы сухие и торчат во все стороны. Глаза, конечно, яркие, но маленькие, одна радость - кожа. Кожа у нее была - хоть в рекламе снимайся. Нежная, бархатистая, очень светлая. Даже подростком она не знала, что такое прыщи. Зато знала, что такое размер DD применительно к лифчикам.
![]() День за днем они гуляли, целовались, потом спорили, потом ссорились, потом поспешно мирились, а ночью Петра писала списки. Списки тех мест, где они бродили накануне. Того, что они еще не попробовали в «Чесночном раю», где даже мороженое, и то с чесноком. Или улочек на Русском Холме. И, пока она писала, боль отпускала, уходила, будто вода в сток. Закончив список, Петра доедала шоколадку – пятую за день, - и ложилась спать с уверенностью в завтрашнем дне. В завтрашнем дне будет она, будет Майк, будет город, и все это вместе, а не порознь, потому что ей это необходимо, как воздух, а тьма снова останется ни с чем.
День за днем они гуляли, целовались, потом спорили, потом ссорились, потом поспешно мирились, а ночью Петра писала списки. Списки тех мест, где они бродили накануне. Того, что они еще не попробовали в «Чесночном раю», где даже мороженое, и то с чесноком. Или улочек на Русском Холме. И, пока она писала, боль отпускала, уходила, будто вода в сток. Закончив список, Петра доедала шоколадку – пятую за день, - и ложилась спать с уверенностью в завтрашнем дне. В завтрашнем дне будет она, будет Майк, будет город, и все это вместе, а не порознь, потому что ей это необходимо, как воздух, а тьма снова останется ни с чем.
![]() Больше полугода их троица оставалась нерушима, хотя ссорились они все больше, а целовались и спорили все меньше. В конце концов, конечно же, нашлась сердобольная подруга, которая открыла ей глаза, сидя за чашкой каппучино на набережной.
Больше полугода их троица оставалась нерушима, хотя ссорились они все больше, а целовались и спорили все меньше. В конце концов, конечно же, нашлась сердобольная подруга, которая открыла ей глаза, сидя за чашкой каппучино на набережной.
![]() Нужно было просто сказать Майку - иди, дорогой, никто тебя не держит. И Петра твердо решила так и сделать. Но едва его увидела, накинулась с упреками. Какого черта, дорогой и любимый, как так можно, у меня за спиной, с этой долговязой, и весь курс уже смеется. На что дорогой и любимый принялся что-то врать, путаться, а под конец выпалил, что не может так больше, что он будто связан по рукам и ногам, что уже сколько времени думает, надо бы просто сказать, что у них - все, и каждый раз откладывает на утро, - и каждое утро не понимает, что это на него нашло, зачем им расходиться. А потом они встречаются, он смотрит на Петру и снова дает себе слово все сказать - и опять у него язык будто замерзает, как на приеме у стоматолога.
Нужно было просто сказать Майку - иди, дорогой, никто тебя не держит. И Петра твердо решила так и сделать. Но едва его увидела, накинулась с упреками. Какого черта, дорогой и любимый, как так можно, у меня за спиной, с этой долговязой, и весь курс уже смеется. На что дорогой и любимый принялся что-то врать, путаться, а под конец выпалил, что не может так больше, что он будто связан по рукам и ногам, что уже сколько времени думает, надо бы просто сказать, что у них - все, и каждый раз откладывает на утро, - и каждое утро не понимает, что это на него нашло, зачем им расходиться. А потом они встречаются, он смотрит на Петру и снова дает себе слово все сказать - и опять у него язык будто замерзает, как на приеме у стоматолога.
![]() Голубь Джемма, голубь Рауль, голубь Доменико.
Голубь Джемма, голубь Рауль, голубь Доменико.
![]() Петра плакала полночи. Оплакивала все - и себя, и размер своих брюк, и несбывшееся счастье, и прогулки по городу, которых теперь не будет, потому что не гулять же одной. И наплакала себе такую боль, что едва не кинулась вызывать скорую. Тогда Петра вытерла слезы, кое-как умыла лицо и села писать. Просто чтобы было не так больно. Она выводила огромный список драконов в Чайнатауне и дошла уже до трехсотого, когда город тряхнуло. Хорошо так тряхнуло, основательно. А Петру отпустило. Она сидела с прямой спиной, аккуратно положив локти на стол, под правильным углом держа тетрадь, выписывая одну идеальную букву за другой.
Петра плакала полночи. Оплакивала все - и себя, и размер своих брюк, и несбывшееся счастье, и прогулки по городу, которых теперь не будет, потому что не гулять же одной. И наплакала себе такую боль, что едва не кинулась вызывать скорую. Тогда Петра вытерла слезы, кое-как умыла лицо и села писать. Просто чтобы было не так больно. Она выводила огромный список драконов в Чайнатауне и дошла уже до трехсотого, когда город тряхнуло. Хорошо так тряхнуло, основательно. А Петру отпустило. Она сидела с прямой спиной, аккуратно положив локти на стол, под правильным углом держа тетрадь, выписывая одну идеальную букву за другой.
![]() Она сидела всю ночь, а на улице не смолкал вой сирен.
Она сидела всю ночь, а на улице не смолкал вой сирен.
![]() Сан-Франциско остался цел. Город практически не пострадал, землетрясение прошло стороной, больше всего досталось пригородам, да на Бейбридже обрушился один пролет. Ни в какое сравнение с землетрясением 1906 года это, конечно же, не шло. Подумаешь, асфальт взломало на улицах.
Сан-Франциско остался цел. Город практически не пострадал, землетрясение прошло стороной, больше всего досталось пригородам, да на Бейбридже обрушился один пролет. Ни в какое сравнение с землетрясением 1906 года это, конечно же, не шло. Подумаешь, асфальт взломало на улицах.
![]() Город принял ее помощь, город дал ей понять, что она нужна, просто необходима. Город водил ее по своим рынкам и набережным, катал на смешных трамваях с холма на холм, рассказывал истории, раскрывал сокровища. С самого начала у нее был город, а она, как дура, влюбилась в сокурсника, самого обычного мальчишку, которому только и нужно, что длинные ноги да смазливое личико. Да захоти она - Майк маялся бы всю жизнь, а она его нарочно бы держала, не любила, а просто держала при себе, как вещь. Сознание собственной силы, собственной тайны, прекрасной, как ее безупречный почерк, оказалось куда слаще, чем сознание того, что она кем-то там любима.
Город принял ее помощь, город дал ей понять, что она нужна, просто необходима. Город водил ее по своим рынкам и набережным, катал на смешных трамваях с холма на холм, рассказывал истории, раскрывал сокровища. С самого начала у нее был город, а она, как дура, влюбилась в сокурсника, самого обычного мальчишку, которому только и нужно, что длинные ноги да смазливое личико. Да захоти она - Майк маялся бы всю жизнь, а она его нарочно бы держала, не любила, а просто держала при себе, как вещь. Сознание собственной силы, собственной тайны, прекрасной, как ее безупречный почерк, оказалось куда слаще, чем сознание того, что она кем-то там любима.
![]() Голубь Анна, голубь Марко, голубь Джиованни.
Голубь Анна, голубь Марко, голубь Джиованни.
![]() С тех пор все пошло как по маслу. Петра училась, работала, поглощала шоколад и донатсы, копила деньги, а летом ехала в город, который мог бы отозваться на ее силу. Больше всего их было в Европе. Лондон, Санкт-Петербург, Рим, Венеция, Прага, Вена, Париж, Мадрид. Чаще, чем раз в год, она ездить не могла, заработки не позволяли, да и мать была против. Но каждый год у нее был новый роман, и каждый год ночной работы прибавлялось.
С тех пор все пошло как по маслу. Петра училась, работала, поглощала шоколад и донатсы, копила деньги, а летом ехала в город, который мог бы отозваться на ее силу. Больше всего их было в Европе. Лондон, Санкт-Петербург, Рим, Венеция, Прага, Вена, Париж, Мадрид. Чаще, чем раз в год, она ездить не могла, заработки не позволяли, да и мать была против. Но каждый год у нее был новый роман, и каждый год ночной работы прибавлялось.
![]() Ни один мужчина в подметки не годился ее городам. Ни один оргазм не мог сравниться с тем дивным ощущением покоя и уверенности, которое нисходило на нее, когда Петра начинала писать. Ее тетради можно было выставлять в музеях каллиграфии. Она заполняла строчку за строчкой, иногда распрямляясь и любуясь на безупречные ряды букв и слов. В такие ночи она держала на себе весь мир.
Ни один мужчина в подметки не годился ее городам. Ни один оргазм не мог сравниться с тем дивным ощущением покоя и уверенности, которое нисходило на нее, когда Петра начинала писать. Ее тетради можно было выставлять в музеях каллиграфии. Она заполняла строчку за строчкой, иногда распрямляясь и любуясь на безупречные ряды букв и слов. В такие ночи она держала на себе весь мир.
![]() Голубь Зита, голубь Орсо, голубь Джироламо.
Голубь Зита, голубь Орсо, голубь Джироламо.
![]() Вот и сейчас она перечисляла голубей, и знала, что между городом и водой стоит только она, Петра. Только от нее зависит, останутся ли в этом мире каналы, маленькие площади, сотни и сотни мостов, выживут ли две тысячи с лишним голубей, а с ними - площадь Святого Марка, колонна с крылатым львом, собор с куполами-медузами, ряды арок вдоль галереи. У них не было никого, кроме толстой одинокой женщины, живущей на другой стороне Земли.
Вот и сейчас она перечисляла голубей, и знала, что между городом и водой стоит только она, Петра. Только от нее зависит, останутся ли в этом мире каналы, маленькие площади, сотни и сотни мостов, выживут ли две тысячи с лишним голубей, а с ними - площадь Святого Марка, колонна с крылатым львом, собор с куполами-медузами, ряды арок вдоль галереи. У них не было никого, кроме толстой одинокой женщины, живущей на другой стороне Земли.
![]() Голубь Лиа, голубь Нино, голубь Паулино.
Голубь Лиа, голубь Нино, голубь Паулино.
![]() Желтые квадраты окна снова скользнули по потолку, затем послышался глухой удар и визг тормозов. Рука Петры дернулась, поехала вниз, перескочила на следующую строчку. Взревел мотор, машина уехала. На шоссе опять сбили какого-то зверя. Петра встала, подошла к окну, свесилась в ночь. Сердце колотилось, как бешеное. Со стороны дороги не доносилось ни звука. Либо удрал, либо насмерть. Кто это был – енот или соседский кот? У Петры кошки не было. Она закрыла окно, села за стол, выдернула испорченный лист, снова стала выводить: "Голубь Рита, голубь Дым..." - и завыла в голос, бросив фломастер.
Желтые квадраты окна снова скользнули по потолку, затем послышался глухой удар и визг тормозов. Рука Петры дернулась, поехала вниз, перескочила на следующую строчку. Взревел мотор, машина уехала. На шоссе опять сбили какого-то зверя. Петра встала, подошла к окну, свесилась в ночь. Сердце колотилось, как бешеное. Со стороны дороги не доносилось ни звука. Либо удрал, либо насмерть. Кто это был – енот или соседский кот? У Петры кошки не было. Она закрыла окно, села за стол, выдернула испорченный лист, снова стала выводить: "Голубь Рита, голубь Дым..." - и завыла в голос, бросив фломастер.
![]() Двадцать пять лет назад такой же летней ночью Петра выскочила из окна в сад, помчалась прямо в пижаме через кусты к дороге, во весь голос зовя свою кошку, и нашла ее на обочине, смятую, страшную. Петра схватила ее на руки, Дымка издала какой-то невнятный, очень низкий звук - и умерла на месте. Потом уже Петре сказали, что ни в коем случае нельзя хватать сбитых животных, потому что может быть поврежден позвоночник. Но она ни в чем не виновата - скорее всего, Дымке уже ничем нельзя было помочь.
Двадцать пять лет назад такой же летней ночью Петра выскочила из окна в сад, помчалась прямо в пижаме через кусты к дороге, во весь голос зовя свою кошку, и нашла ее на обочине, смятую, страшную. Петра схватила ее на руки, Дымка издала какой-то невнятный, очень низкий звук - и умерла на месте. Потом уже Петре сказали, что ни в коем случае нельзя хватать сбитых животных, потому что может быть поврежден позвоночник. Но она ни в чем не виновата - скорее всего, Дымке уже ничем нельзя было помочь.
![]() Двадцать пять лет псу под хвост, с внезапной яростью думает она, города она тут спасает, спасительница хренова. Да все города на свете я бы променяла на то, чтобы выжила моя кошка.
Двадцать пять лет псу под хвост, с внезапной яростью думает она, города она тут спасает, спасительница хренова. Да все города на свете я бы променяла на то, чтобы выжила моя кошка.
![]() Петра воет, зажимая себе рот левой рукой - чтобы не разбудить мать. А правой выводит через разворот - Дымка, Дымка, Дымка. Выводит почти печатными буквами, вкривь и вкось, рука дрожит и не слушается, да еще и рукав пижамы мешает. Петра чертит буквы, а пижама на ней становится все больше и больше, стул уезжает куда-то вниз, так что за столом сидеть ужасно неудобно, Петра зажимает себе рот и пишет - кошка Дымка, кошка Дымка, кошка Дымка, - а чей-то голос в голове кричит ей с обратной стороны уха: дура! живая кошка Дымка! пиши, дура, живая, живая, живая кошка Дымка! И Петра хочет написать это ровно и красиво, но пишет криво и косо, и роняет карандаш, и лезет за ним под стол, и путается в пижамных штанах, вдруг ставших огромными, как палатка, падает со стула и крепко ударяется затылком о тумбу стола.
Петра воет, зажимая себе рот левой рукой - чтобы не разбудить мать. А правой выводит через разворот - Дымка, Дымка, Дымка. Выводит почти печатными буквами, вкривь и вкось, рука дрожит и не слушается, да еще и рукав пижамы мешает. Петра чертит буквы, а пижама на ней становится все больше и больше, стул уезжает куда-то вниз, так что за столом сидеть ужасно неудобно, Петра зажимает себе рот и пишет - кошка Дымка, кошка Дымка, кошка Дымка, - а чей-то голос в голове кричит ей с обратной стороны уха: дура! живая кошка Дымка! пиши, дура, живая, живая, живая кошка Дымка! И Петра хочет написать это ровно и красиво, но пишет криво и косо, и роняет карандаш, и лезет за ним под стол, и путается в пижамных штанах, вдруг ставших огромными, как палатка, падает со стула и крепко ударяется затылком о тумбу стола.
![]() Найдя карандаш, она заглядывает в тетрадь. Там синим цветом, печатными буквами, ровными строчками красуется список ее игрушек, кукол и книжек-раскрасок. А поперек разворота, наискось к углу, записано то, что ей прокричала невидимая женщина - "Живая, живая, живая кошка Дымк..." Петра изумленно оглядывает чужую взрослую пижаму на себе - а куда девалась ее, с Микки Маусом? Рукава она подворачивает, а из штанов попросту вылезает, и получается очень здорово - огромный шелковый халат в атласную розовую полоску. Петра пытается оглядеть себя со спины, и тут со стороны дороги в открытое окно доносится глухой удар и визг тормозов. «Дописывай! – раздается в голове тот же голос. - Дописывай, толстая клуша!»
Найдя карандаш, она заглядывает в тетрадь. Там синим цветом, печатными буквами, ровными строчками красуется список ее игрушек, кукол и книжек-раскрасок. А поперек разворота, наискось к углу, записано то, что ей прокричала невидимая женщина - "Живая, живая, живая кошка Дымк..." Петра изумленно оглядывает чужую взрослую пижаму на себе - а куда девалась ее, с Микки Маусом? Рукава она подворачивает, а из штанов попросту вылезает, и получается очень здорово - огромный шелковый халат в атласную розовую полоску. Петра пытается оглядеть себя со спины, и тут со стороны дороги в открытое окно доносится глухой удар и визг тормозов. «Дописывай! – раздается в голове тот же голос. - Дописывай, толстая клуша!»
![]() Петра вовсе не толстая и вовсе не клуша, но она дописывает букву «А», одна палочка, другая, потом перекладина. «А теперь беги!» - кричит тот же голос, и Петра наконец понимает, что это был за звук и почему визжали тормоза. Лицо ее мгновенно перекашивается от слез, но она лезет в окно, свешивается в сад и бежит через кусты к шоссе, где почти полная луна раскрасила все в черный и белый цвет, и на белой траве обочины лежит черное пятно, хотя на самом деле Дымка серая, жемчужно-серая и пушистая, не зря же ее зовут Дымка.
Петра вовсе не толстая и вовсе не клуша, но она дописывает букву «А», одна палочка, другая, потом перекладина. «А теперь беги!» - кричит тот же голос, и Петра наконец понимает, что это был за звук и почему визжали тормоза. Лицо ее мгновенно перекашивается от слез, но она лезет в окно, свешивается в сад и бежит через кусты к шоссе, где почти полная луна раскрасила все в черный и белый цвет, и на белой траве обочины лежит черное пятно, хотя на самом деле Дымка серая, жемчужно-серая и пушистая, не зря же ее зовут Дымка.
![]() «Не трогай!» - кричит голос, и Петра садится на корточки, зажимает пальцы в кулаки, кулаки прижимает к груди и тихонько зовет: Дымушка, Дымка. Дымка издает жалобный мяв и проползает шаг ей навстречу. Дымушка, повторяет Петра, Дымочка моя. Кошка неуверенно встает на ноги и идет к ней, слегка припадая на переднюю лапу. Она бодает Петру в голую коленку, начинает ластиться и тереться, и вот тогда Петра осторожно берет ее на руки и бежит в дом. Она выпускает кошку в свое окно, бежит к веранде, приносит под окно стул и залезает сама, и пока она лезет, Дымка грузно запрыгивает на ее кровать и ложится поверх одеяла, хотя мама Петры решительно против подобных вольностей. Петра прислушивается. За стеной еще слышны голоса родителей, но ссора явно стихает. Петра ныряет под одеяло. Дымка переползает поближе к ней. Ее мохнатые бока так и ходят от тяжелого дыхания.
«Не трогай!» - кричит голос, и Петра садится на корточки, зажимает пальцы в кулаки, кулаки прижимает к груди и тихонько зовет: Дымушка, Дымка. Дымка издает жалобный мяв и проползает шаг ей навстречу. Дымушка, повторяет Петра, Дымочка моя. Кошка неуверенно встает на ноги и идет к ней, слегка припадая на переднюю лапу. Она бодает Петру в голую коленку, начинает ластиться и тереться, и вот тогда Петра осторожно берет ее на руки и бежит в дом. Она выпускает кошку в свое окно, бежит к веранде, приносит под окно стул и залезает сама, и пока она лезет, Дымка грузно запрыгивает на ее кровать и ложится поверх одеяла, хотя мама Петры решительно против подобных вольностей. Петра прислушивается. За стеной еще слышны голоса родителей, но ссора явно стихает. Петра ныряет под одеяло. Дымка переползает поближе к ней. Ее мохнатые бока так и ходят от тяжелого дыхания.
![]() - Утром мы пойдем к врачу, - обещает ей Петра. – И он полечит твою лапу. И я тебя больше никогда не выпущу ночью, никогда-никогда.
- Утром мы пойдем к врачу, - обещает ей Петра. – И он полечит твою лапу. И я тебя больше никогда не выпущу ночью, никогда-никогда.
![]() Она лежит, боясь пошевелиться и потревожить кошку, и слушает голоса за стеной. А что если, думает она, что если сейчас встать и написать в той же тетради – «мама и папа любят друг друга сильно-сильно»? Но голос в голове молчит. Вот сейчас встану и напишу, думает Петра изо всех сил. «Не надо, - говорит голос, но уже очень тихо, будто издалека. – Бросай-ка ты эту муру. Пусть разбираются сами».
Она лежит, боясь пошевелиться и потревожить кошку, и слушает голоса за стеной. А что если, думает она, что если сейчас встать и написать в той же тетради – «мама и папа любят друг друга сильно-сильно»? Но голос в голове молчит. Вот сейчас встану и напишу, думает Петра изо всех сил. «Не надо, - говорит голос, но уже очень тихо, будто издалека. – Бросай-ка ты эту муру. Пусть разбираются сами».