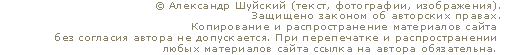к оглавлению
--»
Я говорю: нет
![]() Надо было заподозрить неладное еще тогда, когда я оказался у входной двери с ключами в одной руке и пакетом еды из супермаркета - в другой. Но я, как ни в чем не бывало, открыл дверь, вошел и привычным жестом нашарил выключатель в коридоре.
Надо было заподозрить неладное еще тогда, когда я оказался у входной двери с ключами в одной руке и пакетом еды из супермаркета - в другой. Но я, как ни в чем не бывало, открыл дверь, вошел и привычным жестом нашарил выключатель в коридоре.
![]() И дальше все уж пошло как по маслу.
И дальше все уж пошло как по маслу.
![]() На кухне, за столом, опершись локтями, сидит женщина. Она смотрит на меня, молча и весело - будто все это время ждала, что я вот-вот появлюсь с едой и ключами. У нее отекшие запястья, седые волосы, тонкие, как пух, венчиком стоящие вокруг головы, только по волосам и можно определить ее возраст.
На кухне, за столом, опершись локтями, сидит женщина. Она смотрит на меня, молча и весело - будто все это время ждала, что я вот-вот появлюсь с едой и ключами. У нее отекшие запястья, седые волосы, тонкие, как пух, венчиком стоящие вокруг головы, только по волосам и можно определить ее возраст.
![]() - Что ты здесь делаешь, - говорю я и начинаю оглядываться. В сущности, одного ее присутствия достаточно, но я все равно оглядываюсь. Лишний раз посчитать двери не помешает, раз уж я сглупил и вошел.
- Что ты здесь делаешь, - говорю я и начинаю оглядываться. В сущности, одного ее присутствия достаточно, но я все равно оглядываюсь. Лишний раз посчитать двери не помешает, раз уж я сглупил и вошел.
![]() - Сына, - говорит она и вся светится от внутреннего смеха. - Сына - большая детина. А еще "сына" рифмуется со "скотина".
- Сына, - говорит она и вся светится от внутреннего смеха. - Сына - большая детина. А еще "сына" рифмуется со "скотина".
![]() - Ты лучше отца в дом пусти, - говорю я.
- Ты лучше отца в дом пусти, - говорю я.
![]() Она гаснет так внезапно, будто в ней выключили свет. Рот складывается в прямую тонкую линию, бледно-розовую, как старый шрам.
Она гаснет так внезапно, будто в ней выключили свет. Рот складывается в прямую тонкую линию, бледно-розовую, как старый шрам.
![]() Отец ходит снаружи, я это хорошо знаю. Я его не видел, сегодня зашел через другую дверь, да и кухня чужая, не материнская. Когда она на своей кухне, ее дом окружен водой, старый облупившийся дом, некогда синий, а теперь выгоревший до белизны, только в трещинах еще видны остатки краски. Вокруг по кромке воды ходит отец с белыми глазами. Он давно мертв и не может зайти, пока не позовут.
Отец ходит снаружи, я это хорошо знаю. Я его не видел, сегодня зашел через другую дверь, да и кухня чужая, не материнская. Когда она на своей кухне, ее дом окружен водой, старый облупившийся дом, некогда синий, а теперь выгоревший до белизны, только в трещинах еще видны остатки краски. Вокруг по кромке воды ходит отец с белыми глазами. Он давно мертв и не может зайти, пока не позовут.
![]() - Со "скотина", - повторяет мать. Ей всегда легко давались рифмы. - Я ведь просила булки купить, ты не купил?
- Со "скотина", - повторяет мать. Ей всегда легко давались рифмы. - Я ведь просила булки купить, ты не купил?
![]() Я говорю:
Я говорю:
![]() - Нет.
- Нет.
![]() Поворачиваюсь и ухожу из кухни. Коридор петляет лесной тропой, уводит меня вглубь: ни одна из наших квартир сроду такой не была. Нужно искать, как отсюда выйти, уже понятно, что заснул не здесь. Понятно, что не здесь, пока что непонятно, где.
Поворачиваюсь и ухожу из кухни. Коридор петляет лесной тропой, уводит меня вглубь: ни одна из наших квартир сроду такой не была. Нужно искать, как отсюда выйти, уже понятно, что заснул не здесь. Понятно, что не здесь, пока что непонятно, где.
![]() Коридор превращается в анфиладу комнат, и в конце концов я выхожу в огромный зал, впору балы устраивать. Большие, почти до потолка окна тянутся вдоль двух стен, заглядывают друг в друга, но в зале темновато, потому что он загроможден, под самую лепнину забит старой мебелью: огромными трюмо, шкафами на гнутых ножках, будто они просели за много лет под тяжестью красного дерева, буфеты щерятся пустыми полками. Оставшееся между шкафами пространство занимают сложные конструкции из обитых кожей стульев. Я пробираюсь через весь этот антиквариат и натыкаюсь на кровать. Она размером с Ноев ковчег, к тому же смята и еще теплая. Очень мило.
Коридор превращается в анфиладу комнат, и в конце концов я выхожу в огромный зал, впору балы устраивать. Большие, почти до потолка окна тянутся вдоль двух стен, заглядывают друг в друга, но в зале темновато, потому что он загроможден, под самую лепнину забит старой мебелью: огромными трюмо, шкафами на гнутых ножках, будто они просели за много лет под тяжестью красного дерева, буфеты щерятся пустыми полками. Оставшееся между шкафами пространство занимают сложные конструкции из обитых кожей стульев. Я пробираюсь через весь этот антиквариат и натыкаюсь на кровать. Она размером с Ноев ковчег, к тому же смята и еще теплая. Очень мило.
![]() - Очень мило, - повторяю я вслух, - а сейчас-то ты где спишь?
- Очень мило, - повторяю я вслух, - а сейчас-то ты где спишь?
![]() Я не рассчитываю на ответ, но из противоположной двери выныривает Ольга. Она необычайно оживлена.
Я не рассчитываю на ответ, но из противоположной двери выныривает Ольга. Она необычайно оживлена.
![]() - Пришел, маленький? Смотри, как здорово, надо только все это вынести, и мы тут устроим тебе студию, ты же всегда хотел студию с окнами на две стороны, а тут как раз восток-запад. Я уже грузчиков вызвала, они приедут вечером, правда, здорово?
- Пришел, маленький? Смотри, как здорово, надо только все это вынести, и мы тут устроим тебе студию, ты же всегда хотел студию с окнами на две стороны, а тут как раз восток-запад. Я уже грузчиков вызвала, они приедут вечером, правда, здорово?
![]() Мы действительно всегда хотели студию с окнами на две стороны или со стеклянной крышей, что правда, то правда. Хорошо, что здесь Ольга, не то я бы действительно начал прикидывать, что отсюда вынести, что оставить и как затенять окна, когда будет бить закатный свет. "Нет", - произношу я почти про себя, а вслух говорю:
Мы действительно всегда хотели студию с окнами на две стороны или со стеклянной крышей, что правда, то правда. Хорошо, что здесь Ольга, не то я бы действительно начал прикидывать, что отсюда вынести, что оставить и как затенять окна, когда будет бить закатный свет. "Нет", - произношу я почти про себя, а вслух говорю:
![]() - Конечно. Только ты знаешь, я с ног валюсь. Я посплю часик, потом будем со всем разбираться, ладно?
- Конечно. Только ты знаешь, я с ног валюсь. Я посплю часик, потом будем со всем разбираться, ладно?
![]() - Ладно, - легко соглашается Ольга и исчезает так же, как появилась - в темном дверном проеме, как в проруби.
- Ладно, - легко соглашается Ольга и исчезает так же, как появилась - в темном дверном проеме, как в проруби.
![]() Я, не раздеваясь, падаю на кровать, в последний раз оглядываю несбыточную мечту - студия на два света, надо же, - и закрываю глаза.
Я, не раздеваясь, падаю на кровать, в последний раз оглядываю несбыточную мечту - студия на два света, надо же, - и закрываю глаза.
![]() Мне снится снег и свет сквозь него, я смотрю на собственные руки, лепящие снежок. Я глубоко втискиваю в податливый снежный ком яшмовую печатку с монограммой, но буквы белые на белом, и я никак не могу их прочитать.
Мне снится снег и свет сквозь него, я смотрю на собственные руки, лепящие снежок. Я глубоко втискиваю в податливый снежный ком яшмовую печатку с монограммой, но буквы белые на белом, и я никак не могу их прочитать.
![]() Когда я открываю глаза, вокруг совсем темно. Тусклая лампочка, обернутая газетным конусом, свисает откуда-то сбоку, в ее свете можно разобрать разве что собственные пальцы, но не более того. Лампочка, значит. Ну-ну. Глаза привыкают к свету, я вижу, что кровать все та же, а в темные арки без занавесок с двух сторон заглядывают десятки огоньков соседских окон. Проспал полдня и не сдвинулся ни на шаг. Надо уже как-то начинать шевелиться, не то я так всю жизнь просплю.
Когда я открываю глаза, вокруг совсем темно. Тусклая лампочка, обернутая газетным конусом, свисает откуда-то сбоку, в ее свете можно разобрать разве что собственные пальцы, но не более того. Лампочка, значит. Ну-ну. Глаза привыкают к свету, я вижу, что кровать все та же, а в темные арки без занавесок с двух сторон заглядывают десятки огоньков соседских окон. Проспал полдня и не сдвинулся ни на шаг. Надо уже как-то начинать шевелиться, не то я так всю жизнь просплю.
![]() В дверном проеме снова возникает Ольга, как чертик из коробочки.
В дверном проеме снова возникает Ольга, как чертик из коробочки.
![]() - Проснулся? Будешь чай? - говорит она. - Какое варенье достать?
- Проснулся? Будешь чай? - говорит она. - Какое варенье достать?
![]() - Нет, - говорю я. - Мне сейчас нужно идти. Я должен одного человека встретить. Как мне отсюда выйти?
- Нет, - говорю я. - Мне сейчас нужно идти. Я должен одного человека встретить. Как мне отсюда выйти?
![]() - Кого? - спрашивает Ольга, и я лихорадочно начинаю придумывать, кого бы мне встретить. Кого-то из жизни моего второго, кого в этом городе нет и быть не может. Надо как-то переломить этот сон.
- Кого? - спрашивает Ольга, и я лихорадочно начинаю придумывать, кого бы мне встретить. Кого-то из жизни моего второго, кого в этом городе нет и быть не может. Надо как-то переломить этот сон.
![]() - Ты ее не знаешь. Моя московская приятельница. Мы договорились в "Чашке" встретиться. Ну?
- Ты ее не знаешь. Моя московская приятельница. Мы договорились в "Чашке" встретиться. Ну?
![]() - Иди до конца коридора, там входная дверь, - говорит Ольга с укоризной. - Но учти, скоро грузчики будут. А без тебя я тут ничего таскать не намерена. Ты надолго?
- Иди до конца коридора, там входная дверь, - говорит Ольга с укоризной. - Но учти, скоро грузчики будут. А без тебя я тут ничего таскать не намерена. Ты надолго?
![]() Я говорю:
Я говорю:
![]() - Нет.
- Нет.
![]() И почти сразу оказываюсь на улице. Кофейня тоже находится как-то слишком быстро, это явно не "Чашка", но внутри меня ждут, и я думаю, что условностями можно пренебречь.
И почти сразу оказываюсь на улице. Кофейня тоже находится как-то слишком быстро, это явно не "Чашка", но внутри меня ждут, и я думаю, что условностями можно пренебречь.
![]() Мой спасательный круг одет в немыслимые вельветовые штаны о двадцати карманах - то есть на ней надето что-то еще, но штаны застят все остальные предметы гардероба. Штаны сияют пуговицами на клапанах, пускают солнечные зайчики на все кафе.
Мой спасательный круг одет в немыслимые вельветовые штаны о двадцати карманах - то есть на ней надето что-то еще, но штаны застят все остальные предметы гардероба. Штаны сияют пуговицами на клапанах, пускают солнечные зайчики на все кафе.
![]() - Что ты тут делаешь, - накидывается на меня с порога московская приятельница, - ты же уехал!
- Что ты тут делаешь, - накидывается на меня с порога московская приятельница, - ты же уехал!
![]() Я падаю на стул и требую кофе.
Я падаю на стул и требую кофе.
![]() - Погоди, не тормоши меня. Уехал? Куда?
- Погоди, не тормоши меня. Уехал? Куда?
![]() - В Вильнюс! На прошлой неделе еще! Что ты вообще в Питере делаешь?
- В Вильнюс! На прошлой неделе еще! Что ты вообще в Питере делаешь?
![]() - Шикарные штаны, - говорю я. - Сердце мое, ты меня спасла. Так и знай. А надолго я уехал?
- Шикарные штаны, - говорю я. - Сердце мое, ты меня спасла. Так и знай. А надолго я уехал?
![]() - Ты говорил, что недели на две. Правда, классные штаны? Мне их на заказ сшили. Они как дом! И в карманы можно распихать все-все. А то я вечно все теряю. Так ты не уехал?
- Ты говорил, что недели на две. Правда, классные штаны? Мне их на заказ сшили. Они как дом! И в карманы можно распихать все-все. А то я вечно все теряю. Так ты не уехал?
![]() Я глотаю кофе, закуриваю сигарету. Как бы ни называлось это кафе, пепельницы у них на столах есть. Вот и хорошо.
Я глотаю кофе, закуриваю сигарету. Как бы ни называлось это кафе, пепельницы у них на столах есть. Вот и хорошо.
![]() - Я уехал. Наверное. Не беспокойся, я тебе снюсь. То есть не совсем я и не совсем тебе, но это сейчас не важно.
- Я уехал. Наверное. Не беспокойся, я тебе снюсь. То есть не совсем я и не совсем тебе, но это сейчас не важно.
![]() Она понимающе кивает.
Она понимающе кивает.
![]() - Ты мне опять все объяснишь когда-нибудь потом, да?
- Ты мне опять все объяснишь когда-нибудь потом, да?
![]() Я смеюсь, качаю головой.
Я смеюсь, качаю головой.
![]() - Я не уверен, что вообще смогу тебе когда-нибудь это объяснить. Могу сказку рассказать, хочешь?
- Я не уверен, что вообще смогу тебе когда-нибудь это объяснить. Могу сказку рассказать, хочешь?
![]() - Хочу, - говорит она и добавляет ехидно: - Аттракцион неслыханной щедрости.
- Хочу, - говорит она и добавляет ехидно: - Аттракцион неслыханной щедрости.
![]() - Вот и пользуйся, - говорю я и начинаю с классики: - В некотором царстве, в некотором государстве в старой усадьбе жил человек. Больше всего он любил смотреть ночью в окно, когда на улице дождь, и чтобы при этом на столе горела лампа и печка топилась. В такие ночи он читал под лампой и время от времени смотрел в окно, и видел там, в полутьме, второго читающего человека, освещенного лампой. Тогда он воображал, что у него есть брат-близнец, и что они вместе читают ночью, пока дождь стучит в окна. Но однажды он заметил, что у его отражения совсем мокрые волосы, книга распухла от воды, а по лицу текут капли. Его двойник сидел под проливным дождем и даже не притворялся, что читает - все равно на страницах было не разобрать ни буквы. Тогда этот человек испугался. А если мы связаны в единое целое, подумал он. А если он подхватит воспаление легких, а умру я? И ладно пока осень, а что же оно будет делать зимой, это мое отражение? На следующий день он побежал к стекольщику и заказал зеркальные окна на весь дом. Стекольщик удивился, но выполнил заказ. И по вечерам хозяин дома со своим двойником сидели под одинаково уютными лампами, с одинаково уютными пледами, в одинаково теплых комнатах. Так прошла осень и почти вся зима, но человек не видел в окнах снега, солнца и синего неба - только когда выходил во двор. И в конце марта отражение с ним заговорило. Послушай, сказало оно, дом, лампа и плед - это очень хорошо, но я не могу все время сидеть в четырех стенах. Я хочу погулять. Хочу промокнуть, хочу замерзнуть. В конце концов, я мок и замерзал столько лет, ничего же не случилось. Мой дом с той стороны был огромный, как весь мир, а теперь он только твоя комната. Ты меня запер, сказало отражение, и если ты меня не выпустишь, я уйду совсем. И брейся тогда на ощупь. Человек совсем не хотел лишаться своего отражения. И он сменил стекла в доме на обычные, прозрачные. Вечером он зажег лампу - и отражение немедленно появилось в окне. Оно помахало хозяину рукой, высунуло язык и поймало снежинку.
- Вот и пользуйся, - говорю я и начинаю с классики: - В некотором царстве, в некотором государстве в старой усадьбе жил человек. Больше всего он любил смотреть ночью в окно, когда на улице дождь, и чтобы при этом на столе горела лампа и печка топилась. В такие ночи он читал под лампой и время от времени смотрел в окно, и видел там, в полутьме, второго читающего человека, освещенного лампой. Тогда он воображал, что у него есть брат-близнец, и что они вместе читают ночью, пока дождь стучит в окна. Но однажды он заметил, что у его отражения совсем мокрые волосы, книга распухла от воды, а по лицу текут капли. Его двойник сидел под проливным дождем и даже не притворялся, что читает - все равно на страницах было не разобрать ни буквы. Тогда этот человек испугался. А если мы связаны в единое целое, подумал он. А если он подхватит воспаление легких, а умру я? И ладно пока осень, а что же оно будет делать зимой, это мое отражение? На следующий день он побежал к стекольщику и заказал зеркальные окна на весь дом. Стекольщик удивился, но выполнил заказ. И по вечерам хозяин дома со своим двойником сидели под одинаково уютными лампами, с одинаково уютными пледами, в одинаково теплых комнатах. Так прошла осень и почти вся зима, но человек не видел в окнах снега, солнца и синего неба - только когда выходил во двор. И в конце марта отражение с ним заговорило. Послушай, сказало оно, дом, лампа и плед - это очень хорошо, но я не могу все время сидеть в четырех стенах. Я хочу погулять. Хочу промокнуть, хочу замерзнуть. В конце концов, я мок и замерзал столько лет, ничего же не случилось. Мой дом с той стороны был огромный, как весь мир, а теперь он только твоя комната. Ты меня запер, сказало отражение, и если ты меня не выпустишь, я уйду совсем. И брейся тогда на ощупь. Человек совсем не хотел лишаться своего отражения. И он сменил стекла в доме на обычные, прозрачные. Вечером он зажег лампу - и отражение немедленно появилось в окне. Оно помахало хозяину рукой, высунуло язык и поймало снежинку.
![]() Моя слушательница сидит, затаив дыхание.
Моя слушательница сидит, затаив дыхание.
![]() - И у этого человека действительно появился брат-близнец? - наконец спрашивает она.
- И у этого человека действительно появился брат-близнец? - наконец спрашивает она.
![]() - Нет, - говорю я. - Так просто брат-близнец не появляется. Но с тех пор зимой этот человек даже в комнатах ходит в теплом шарфе. А когда особенно холодно, то и в перчатках. И всегда зажигает свет вечерами, даже если не читает.
- Нет, - говорю я. - Так просто брат-близнец не появляется. Но с тех пор зимой этот человек даже в комнатах ходит в теплом шарфе. А когда особенно холодно, то и в перчатках. И всегда зажигает свет вечерами, даже если не читает.
![]() Понимаешь, говорю я, нас двое и в то же время один. Мы живем по разные стороны стекла, но когда он спит, а я - нет, мы становимся единым целым. Я перестаю перестать быть им, когда засыпаю сам, а он мной - когда просыпается. Но если его сон и моя явь внезапно совпадают, я проваливаюсь в реальность его снов - не совсем собой, но все-таки и не им самим. Как отражение - тот же человек, и в то же время другой. Но ты же меня узнала, верно?
Понимаешь, говорю я, нас двое и в то же время один. Мы живем по разные стороны стекла, но когда он спит, а я - нет, мы становимся единым целым. Я перестаю перестать быть им, когда засыпаю сам, а он мной - когда просыпается. Но если его сон и моя явь внезапно совпадают, я проваливаюсь в реальность его снов - не совсем собой, но все-таки и не им самим. Как отражение - тот же человек, и в то же время другой. Но ты же меня узнала, верно?
![]() Она молча кивает.
Она молча кивает.
![]() - Ну вот. Это означает, что мой второй заснул в новом месте и заблудился. И если я его не найду, он проснется совсем не там, где заснул. Или не он. И никому из нас это не нужно. Но сейчас я морочу тебе голову, а ты проснешься и ничего не вспомнишь. Я тебя вытащил-то сюда почти случайно, мне нужно было хоть кого-то вытащить.
- Ну вот. Это означает, что мой второй заснул в новом месте и заблудился. И если я его не найду, он проснется совсем не там, где заснул. Или не он. И никому из нас это не нужно. Но сейчас я морочу тебе голову, а ты проснешься и ничего не вспомнишь. Я тебя вытащил-то сюда почти случайно, мне нужно было хоть кого-то вытащить.
![]() - Ну и хорошо, что вытащил, - заявляет она. - Зато я штаны по Питеру выгуляю. А то когда еще получится.
- Ну и хорошо, что вытащил, - заявляет она. - Зато я штаны по Питеру выгуляю. А то когда еще получится.
![]() И правильно. Ели бы мне стали так что-нибудь объяснять, я бы, наверное, тоже пошел бы штаны выгуливать. На поводке и с намордником.
И правильно. Ели бы мне стали так что-нибудь объяснять, я бы, наверное, тоже пошел бы штаны выгуливать. На поводке и с намордником.
![]() Она машет рукой на прощанье и отправляется выгуливать штаны. Я спасен. Мы спасены. Все, что мне нужно, это купить билет до Вильнюса, добраться до моего второго и встретиться с ним в любом стекле. Все равно, что обоим из воды на поверхность вынырнуть. При других обстоятельствах это было бы простейшим из действий, но не тогда, когда мой второй начисто не помнит, где заснул, и я вынужден продираться сквозь все его сны. И все-таки мы попытаемся. Кошмары ему не так уж часто снятся, глядишь, выкрутимся. Хотя - с продуктовым пакетом, с ключами от квартиры, с этой женщиной на кухне, - по мне, так самый настоящий кошмар. В сущности, можно было бы сразу догадаться, еще когда увидел себя у входной двери. И лучше не думать, что будет, если его в это время занесет в мой кошмар. У моих снов глаза такого цвета, что я никому не пожелаю с ними встречаться. Взять хоть того железного болвана, который искал себе глаза. Вместо своих у него были дырки, прикрытые металлическими дверцами, как у печки-буржуйки. Когда дверцы хлопали при ходьбе, было видно, что внутри у него все горит...
Она машет рукой на прощанье и отправляется выгуливать штаны. Я спасен. Мы спасены. Все, что мне нужно, это купить билет до Вильнюса, добраться до моего второго и встретиться с ним в любом стекле. Все равно, что обоим из воды на поверхность вынырнуть. При других обстоятельствах это было бы простейшим из действий, но не тогда, когда мой второй начисто не помнит, где заснул, и я вынужден продираться сквозь все его сны. И все-таки мы попытаемся. Кошмары ему не так уж часто снятся, глядишь, выкрутимся. Хотя - с продуктовым пакетом, с ключами от квартиры, с этой женщиной на кухне, - по мне, так самый настоящий кошмар. В сущности, можно было бы сразу догадаться, еще когда увидел себя у входной двери. И лучше не думать, что будет, если его в это время занесет в мой кошмар. У моих снов глаза такого цвета, что я никому не пожелаю с ними встречаться. Взять хоть того железного болвана, который искал себе глаза. Вместо своих у него были дырки, прикрытые металлическими дверцами, как у печки-буржуйки. Когда дверцы хлопали при ходьбе, было видно, что внутри у него все горит...
![]() По кафе расходится противный запах горячей окалины, я поднимаю голову и быстро говорю:
По кафе расходится противный запах горячей окалины, я поднимаю голову и быстро говорю:
![]() - Нет.
- Нет.
![]() Ну и дела. Стоило о нем вспомнить, он едва не полез. Значит, теперь главное - не задремать, поймают врасплох обоих. Беда в том, что я не знаю, сколько выдержу без сна. Особенно в поезде. Мягкие вагоны поездов просто созданы для того, чтобы в них спать. Закрываешь глаза в одном городе, открываешь - уже за тысячу километров от него. И попробуй, пойми, проснулся ты уже или нет.
Ну и дела. Стоило о нем вспомнить, он едва не полез. Значит, теперь главное - не задремать, поймают врасплох обоих. Беда в том, что я не знаю, сколько выдержу без сна. Особенно в поезде. Мягкие вагоны поездов просто созданы для того, чтобы в них спать. Закрываешь глаза в одном городе, открываешь - уже за тысячу километров от него. И попробуй, пойми, проснулся ты уже или нет.
![]() Но для поезда необходим билет, поэтому я окончательно меняю название кафе, и когда выхожу из него, то оказываюсь как раз напротив Казанского собора. Отсюда до касс предварительной продажи - два шага. Если немножко подтасовать реальность, можно уехать прямо сегодня.
Но для поезда необходим билет, поэтому я окончательно меняю название кафе, и когда выхожу из него, то оказываюсь как раз напротив Казанского собора. Отсюда до касс предварительной продажи - два шага. Если немножко подтасовать реальность, можно уехать прямо сегодня.
![]() Через полчаса у меня уже есть билет на Вильно. Поезд почти пустой, сказала мне девушка в окошке кассы, в купе доедете как в люксе. Помимо билета, у меня имеется загранпаспорт с визой до конца августа - и лист в синюю клетку, где печатными буквами записан адрес. Надо думать, именно по этому адресу дрыхнет сейчас мой второй. Листок вместе с паспортом сыскался в рюкзаке - могу же, когда хочу. Я иду по тротуару и старательно перешагиваю все трещины в асфальте. Это давний способ ублажить реальность: избегать трещин, не наступить на крышку люка, а если уж наступил, то быстро коснуться ближайшей стены. Загадать монетку орлом вверх, тут же найти ее и кинуть в ближайший канал. Монетка золотой чешуйкой летит в воду, на мгновение становится зеленой, потом пропадает из виду. Пусть теперь все сложится удачно, прошу я. Пусть я не засну в пути, пусть я найду этого оболтуса, пусть между нами окажется любое стекло. Пусть это будет как можно скорее.
Через полчаса у меня уже есть билет на Вильно. Поезд почти пустой, сказала мне девушка в окошке кассы, в купе доедете как в люксе. Помимо билета, у меня имеется загранпаспорт с визой до конца августа - и лист в синюю клетку, где печатными буквами записан адрес. Надо думать, именно по этому адресу дрыхнет сейчас мой второй. Листок вместе с паспортом сыскался в рюкзаке - могу же, когда хочу. Я иду по тротуару и старательно перешагиваю все трещины в асфальте. Это давний способ ублажить реальность: избегать трещин, не наступить на крышку люка, а если уж наступил, то быстро коснуться ближайшей стены. Загадать монетку орлом вверх, тут же найти ее и кинуть в ближайший канал. Монетка золотой чешуйкой летит в воду, на мгновение становится зеленой, потом пропадает из виду. Пусть теперь все сложится удачно, прошу я. Пусть я не засну в пути, пусть я найду этого оболтуса, пусть между нами окажется любое стекло. Пусть это будет как можно скорее.
![]() В купе я действительно оказываюсь один. Проводница проверяет билеты, приносит белье, трижды спрашивает, не хочу ли я чаю, и наконец оставляет меня в покое. Ехать мне вечер, ночь и утро, поэтому я застилаю кожаный диванчик одеялом, зачехляю подушку, чтобы было удобнее сидеть, забиваюсь в угол и слушаю, как бьют в рельсы колеса. Заняться мне нечем, спать нельзя, но можно попробовать порыться в рюкзаке. Хорошо бы, чтобы там был плеер или хотя бы тетрадка и карандаш.
В купе я действительно оказываюсь один. Проводница проверяет билеты, приносит белье, трижды спрашивает, не хочу ли я чаю, и наконец оставляет меня в покое. Ехать мне вечер, ночь и утро, поэтому я застилаю кожаный диванчик одеялом, зачехляю подушку, чтобы было удобнее сидеть, забиваюсь в угол и слушаю, как бьют в рельсы колеса. Заняться мне нечем, спать нельзя, но можно попробовать порыться в рюкзаке. Хорошо бы, чтобы там был плеер или хотя бы тетрадка и карандаш.
![]() Тетрадки нет, зато есть плеер и сигареты. С тем и с другим можно продержаться довольно долго, тем более что музыку мы с моим вторым любим примерно похожую.
Тетрадки нет, зато есть плеер и сигареты. С тем и с другим можно продержаться довольно долго, тем более что музыку мы с моим вторым любим примерно похожую.
![]() Потому что главное сейчас - не заснуть в поезде, не заснуть, не-за-снуть, тудук-тудук, тудук-тудук… Когда не спишь против воли, очень много куришь. Я то и дело выхожу в тамбур, прямо с плеером, стою в липком ночном воздухе. Вечер быстро сменяется ночью, за окном проносятся редкие огни станций. Я слушаю музыку и не сплю. Чертовски трудно не спать в поезде, но другого выхода у меня нет.
Потому что главное сейчас - не заснуть в поезде, не заснуть, не-за-снуть, тудук-тудук, тудук-тудук… Когда не спишь против воли, очень много куришь. Я то и дело выхожу в тамбур, прямо с плеером, стою в липком ночном воздухе. Вечер быстро сменяется ночью, за окном проносятся редкие огни станций. Я слушаю музыку и не сплю. Чертовски трудно не спать в поезде, но другого выхода у меня нет.
![]() С рассветом становится легче. Вода в поездах имеет металлический привкус, но я все равно умываюсь, уже третий раз за ночь. Ничего, недолго осталось.
С рассветом становится легче. Вода в поездах имеет металлический привкус, но я все равно умываюсь, уже третий раз за ночь. Ничего, недолго осталось.
![]() Еще две сигареты, и утро сменяется днем. Я отсчитываю часы сигаретами, и в одиннадцать утра выкуриваю последнюю из пачки. Сминаю картонку в руке и уверенно лезу в рюкзак за новой - я запасливый. Но тут в коридоре начинается суета, и я решаю выйти позже. Подождет.
Еще две сигареты, и утро сменяется днем. Я отсчитываю часы сигаретами, и в одиннадцать утра выкуриваю последнюю из пачки. Сминаю картонку в руке и уверенно лезу в рюкзак за новой - я запасливый. Но тут в коридоре начинается суета, и я решаю выйти позже. Подождет.
![]() Поезд притормаживает, затем останавливается. Видно, как за окном дрожит над соседними рельсами воздух, дальняя колея заросла желтыми мелкими цветами, они расплываются в потоках солнечного марева. Судя по часам, время к полудню. Должна быть какая-то разница, то ли час, то ли два, никогда не помню. Странная все-таки эта штука, смена часовых поясов, думаю я, глядя на трясогузку, отважно бегущую по шпалам. То вынимаешь час из жизни, то он откуда-то берется. А что было в этот час, когда он был не с тобой, а ты - не с ним?
Поезд притормаживает, затем останавливается. Видно, как за окном дрожит над соседними рельсами воздух, дальняя колея заросла желтыми мелкими цветами, они расплываются в потоках солнечного марева. Судя по часам, время к полудню. Должна быть какая-то разница, то ли час, то ли два, никогда не помню. Странная все-таки эта штука, смена часовых поясов, думаю я, глядя на трясогузку, отважно бегущую по шпалам. То вынимаешь час из жизни, то он откуда-то берется. А что было в этот час, когда он был не с тобой, а ты - не с ним?
![]() По вагону идет проводница, деликатно стучит в закрытые двери:
По вагону идет проводница, деликатно стучит в закрытые двери:
![]() - Граница. Проснитесь, граница.
- Граница. Проснитесь, граница.
![]() Я подскакиваю. То ли дремал, то ли нет. Если верить часам, то нет. За окном - все тот же перрон и лимонно-желтые крестики соцветий в жарком мареве, по перрону проходит солдат в серо-голубой форме, рядом с ним гарцует роскошная овчарка.
Я подскакиваю. То ли дремал, то ли нет. Если верить часам, то нет. За окном - все тот же перрон и лимонно-желтые крестики соцветий в жарком мареве, по перрону проходит солдат в серо-голубой форме, рядом с ним гарцует роскошная овчарка.
![]() - Вы что, спите, молодой человек?
- Вы что, спите, молодой человек?
![]() В купе просунулась усатая физиономия в такой же форме, таможенник. Он прикасается пальцами правой руки к околышу фуражки и произносит наставительно:
В купе просунулась усатая физиономия в такой же форме, таможенник. Он прикасается пальцами правой руки к околышу фуражки и произносит наставительно:
![]() - Никогда не спите на границе. На границе положено бдить.
- Никогда не спите на границе. На границе положено бдить.
![]() - Это вам положено бдить, - ворчу я, протягивая ему паспорт. - Но я не спал.
- Это вам положено бдить, - ворчу я, протягивая ему паспорт. - Но я не спал.
![]() Усатый таможенник рассматривает мои документы, ищет визу.
Усатый таможенник рассматривает мои документы, ищет визу.
![]() - Вы надолго?
- Вы надолго?
![]() - На несколько дней.
- На несколько дней.
![]() - В Вильнюс?
- В Вильнюс?
![]() - Да.
- Да.
![]() - К кому вы едете?
- К кому вы едете?
![]() - К себе, - брякаю я под нос, но таможенник, видимо, слышит, потому что внезапно оживляется.
- К себе, - брякаю я под нос, но таможенник, видимо, слышит, потому что внезапно оживляется.
![]() - В таком случае я должен отдать вам вот это.
- В таком случае я должен отдать вам вот это.
![]() Он начинает рыться в своей сумке, как дед-мороз в мешке, перебирает какие-то карточки, наконец выуживает плоскую квадратную коробку не больше пачки сигарет.
Он начинает рыться в своей сумке, как дед-мороз в мешке, перебирает какие-то карточки, наконец выуживает плоскую квадратную коробку не больше пачки сигарет.
![]() - Распишитесь вот тут. Это ваше.
- Распишитесь вот тут. Это ваше.
![]() - Нет, - говорю я, - у вас не может быть ничего моего. Проверьте.
- Нет, - говорю я, - у вас не может быть ничего моего. Проверьте.
![]() - Уверяю вас, это ваше. Мы отдаем каждому только свое. Один человек - одна вещь. Спасибо, - говорит он, забирая у меня бланк и ручку. - Ну, в крайнем случае, отдадите тому, к кому вы едете, - заявляет он без тени улыбки. - Счастливого пути.
- Уверяю вас, это ваше. Мы отдаем каждому только свое. Один человек - одна вещь. Спасибо, - говорит он, забирая у меня бланк и ручку. - Ну, в крайнем случае, отдадите тому, к кому вы едете, - заявляет он без тени улыбки. - Счастливого пути.
![]() Коробочка обтянута зеленым шелком. Я открываю ее - и вижу яшмовую печать со знакомой монограммой. В каменной тушечнице - красная краска. Я зажмуриваюсь и говорю "нет", но понимаю, что опоздал.
Коробочка обтянута зеленым шелком. Я открываю ее - и вижу яшмовую печать со знакомой монограммой. В каменной тушечнице - красная краска. Я зажмуриваюсь и говорю "нет", но понимаю, что опоздал.
![]() - Приготовьте документы, таможня! - слышится зычный голос. Я вздрагиваю и открываю глаза. Все-таки заснул. Но, кажется, обошлось. В руках так и осталась смятая пачка сигарет, я разжимаю пальцы - и вижу коробочку, обтянутую зеленым шелком. В купе заглядывает тетка в форме, молча берет у меня паспорт, молча штампует, кричит что-то в коридор, отвернувшись, возвращает мне документы и уходит, так и не сказав ни слова.
- Приготовьте документы, таможня! - слышится зычный голос. Я вздрагиваю и открываю глаза. Все-таки заснул. Но, кажется, обошлось. В руках так и осталась смятая пачка сигарет, я разжимаю пальцы - и вижу коробочку, обтянутую зеленым шелком. В купе заглядывает тетка в форме, молча берет у меня паспорт, молча штампует, кричит что-то в коридор, отвернувшись, возвращает мне документы и уходит, так и не сказав ни слова.
![]() Я говорю: нет. Я щиплю себя за руку и вскрикиваю от боли. Я по-прежнему сижу поверх одеяла в купе, за окном по-прежнему полдень, коробочка с печатью по-прежнему у меня в руке. Мне внезапно становится очень жарко. Я оборачиваюсь к зеркалу на двери - в нем маячит что-то бледное с кляксами глаз. Разобрать детали сложно, но в руках у моего отражения ничего зеленого нет. Ну, хоть на этом спасибо. Если я начну отражаться в зеркалах повсюду, я совсем перестану различать, где сон, где явь.
Я говорю: нет. Я щиплю себя за руку и вскрикиваю от боли. Я по-прежнему сижу поверх одеяла в купе, за окном по-прежнему полдень, коробочка с печатью по-прежнему у меня в руке. Мне внезапно становится очень жарко. Я оборачиваюсь к зеркалу на двери - в нем маячит что-то бледное с кляксами глаз. Разобрать детали сложно, но в руках у моего отражения ничего зеленого нет. Ну, хоть на этом спасибо. Если я начну отражаться в зеркалах повсюду, я совсем перестану различать, где сон, где явь.
![]() Через полчаса Вильнюс.
Через полчаса Вильнюс.
![]() Спрыгнув с поезда, я пробегаю через раскаленный вокзал, в первом же киоске обретаю карту города и долго ищу нужную улицу, держа перед глазами лист в клетку. Нужный мне дом совсем рядом, от вокзала рукой подать, и я, прячась в куцых тенях от полуденного солнца, спускаюсь в город. Направо, налево и еще раз направо.
Спрыгнув с поезда, я пробегаю через раскаленный вокзал, в первом же киоске обретаю карту города и долго ищу нужную улицу, держа перед глазами лист в клетку. Нужный мне дом совсем рядом, от вокзала рукой подать, и я, прячась в куцых тенях от полуденного солнца, спускаюсь в город. Направо, налево и еще раз направо.
![]() Двухэтажный дом с большой мансардой по второй этаж зарос подсолнухами и георгинами; чтобы к нему пройти, я долго кружу по каким-то проулкам и подворотням, наконец сбегаю по щербатой лесенке и нахожу нужную дверь. Снаружи торчит ключ, будто меня тут ждали. Вот я тебе задам, бормочу я, входя в прохладную с жары мансарду с покатым потолком.
Двухэтажный дом с большой мансардой по второй этаж зарос подсолнухами и георгинами; чтобы к нему пройти, я долго кружу по каким-то проулкам и подворотням, наконец сбегаю по щербатой лесенке и нахожу нужную дверь. Снаружи торчит ключ, будто меня тут ждали. Вот я тебе задам, бормочу я, входя в прохладную с жары мансарду с покатым потолком.
![]() В комнате царит такой знакомый бардак, что я чуть не плачу от облегчения. Скидываю обувь и прямо в одежде ныряю под клетчатый плед на разложенном диване. Здесь только что спали. Здесь смыкается тот зазор, в который провалился мой второй, заблудившись во сне. Я вытягиваюсь под пледом, мгновение смотрю на перевернутую книжку потолка, - и закрываю глаза. Теперь мы спим оба, спим в одном и том же месте, я по одну сторону стекла, он - по другую, и все, что нам осталось, это выбрать, где проснуться.
В комнате царит такой знакомый бардак, что я чуть не плачу от облегчения. Скидываю обувь и прямо в одежде ныряю под клетчатый плед на разложенном диване. Здесь только что спали. Здесь смыкается тот зазор, в который провалился мой второй, заблудившись во сне. Я вытягиваюсь под пледом, мгновение смотрю на перевернутую книжку потолка, - и закрываю глаза. Теперь мы спим оба, спим в одном и том же месте, я по одну сторону стекла, он - по другую, и все, что нам осталось, это выбрать, где проснуться.
![]() А потом подойти к зеркалу.
А потом подойти к зеркалу.
![]() Спать хочется так, что кружится голова. Будто я - карточная колода, и меня тасуют чьи-то руки. Все перемешивается внутри и снаружи меня, я дожидаюсь, когда закончится эта карусель, и тогда открываю глаза, - я выбрал, перетасовка закончена. Я стою у входной двери, в руках у меня ключи.
Спать хочется так, что кружится голова. Будто я - карточная колода, и меня тасуют чьи-то руки. Все перемешивается внутри и снаружи меня, я дожидаюсь, когда закончится эта карусель, и тогда открываю глаза, - я выбрал, перетасовка закончена. Я стою у входной двери, в руках у меня ключи.
![]() Я иду в ванную, и сразу, у двери, сталкиваюсь с ним. Не меньше минуты мы молча созерцаем друг друга - он по одну сторону стекла, я по другую. Наконец его физиономия расплывается в широчайшей улыбке.
Я иду в ванную, и сразу, у двери, сталкиваюсь с ним. Не меньше минуты мы молча созерцаем друг друга - он по одну сторону стекла, я по другую. Наконец его физиономия расплывается в широчайшей улыбке.
![]() - Ну вот, - говорит он. - Это ты. Я ужасно рад тебя видеть, ты просто не представляешь, как рад.
- Ну вот, - говорит он. - Это ты. Я ужасно рад тебя видеть, ты просто не представляешь, как рад.
![]() - Очень мило с твоей стороны, - сухо говорю я. - Я был бы тебе крайне признателен, если бы впредь ты был поаккуратнее. Теперь я могу поспать спокойно? Или ты опять меня вытащишь?
- Очень мило с твоей стороны, - сухо говорю я. - Я был бы тебе крайне признателен, если бы впредь ты был поаккуратнее. Теперь я могу поспать спокойно? Или ты опять меня вытащишь?
![]() - Ну конечно, - говорит он. - Спи. Спи, пожалуйста. Я же не знал, что так получится. Ты спи, а я схожу позавтракаю.
- Ну конечно, - говорит он. - Спи. Спи, пожалуйста. Я же не знал, что так получится. Ты спи, а я схожу позавтракаю.
![]() Я киваю, закрываю глаза и прямо на месте проваливаюсь в сон.
Я киваю, закрываю глаза и прямо на месте проваливаюсь в сон.
![]() Я проваливаюсь глубоко, сквозь пол, первый этаж и подвал, я погружаюсь в землю, как в кучу черной шерсти, она смыкается надо мной все плотнее, но она легкая, совсем не давит. Я лежу в этой шерстяной колыбели, и мне снится город надо мной, его множество двойных башен и черепичные крыши, узкие улочки и водопады разноцветной петунии со всех окон и балконов. Мне снится мансарда - в ней, закутавшись в шерстяной плед, спит человек. Солнце заглядывает в западное окно, с голубятни на соседней крыше доносится непрерывное хлопанье крыльев.
Я проваливаюсь глубоко, сквозь пол, первый этаж и подвал, я погружаюсь в землю, как в кучу черной шерсти, она смыкается надо мной все плотнее, но она легкая, совсем не давит. Я лежу в этой шерстяной колыбели, и мне снится город надо мной, его множество двойных башен и черепичные крыши, узкие улочки и водопады разноцветной петунии со всех окон и балконов. Мне снится мансарда - в ней, закутавшись в шерстяной плед, спит человек. Солнце заглядывает в западное окно, с голубятни на соседней крыше доносится непрерывное хлопанье крыльев.
![]() Когда я открываю глаза, то снова вижу надломленный потолок мансарды. Мобильник пищит, требуя внимания - пришло сообщение, поставлен будильник, садится батарейка, и все это разом. Клетчатый шерстяной плед колет шею. Вечернее солнце медом льется в открытое окно, снаружи хлопают крылья и звонят колокола. Я иду умыться и в зеркале над раковиной вижу свое отражение. Никого нет с той стороны стекла. Никто не плещется в душе, никто не кричит мне, отняв полотенце от небритой физиономии: как я рад тебя видеть. Никто не машет рукой. Я остался один. Я стал один. Я никогда не буду знать наверняка, сплю я или нет.
Когда я открываю глаза, то снова вижу надломленный потолок мансарды. Мобильник пищит, требуя внимания - пришло сообщение, поставлен будильник, садится батарейка, и все это разом. Клетчатый шерстяной плед колет шею. Вечернее солнце медом льется в открытое окно, снаружи хлопают крылья и звонят колокола. Я иду умыться и в зеркале над раковиной вижу свое отражение. Никого нет с той стороны стекла. Никто не плещется в душе, никто не кричит мне, отняв полотенце от небритой физиономии: как я рад тебя видеть. Никто не машет рукой. Я остался один. Я стал один. Я никогда не буду знать наверняка, сплю я или нет.
![]() В шкафчике рядом с зеркалом втиснут на узкую полку тетрадный лист с адресом - я сам его сунул сюда, когда вошел и бросился к зеркалу. Кое-где попали брызги воды и буквы расплылись. Поверх листа лежат ключи и стоит яшмовый столбик печати. Красный оттиск немного подтек по влажной бумаге.
В шкафчике рядом с зеркалом втиснут на узкую полку тетрадный лист с адресом - я сам его сунул сюда, когда вошел и бросился к зеркалу. Кое-где попали брызги воды и буквы расплылись. Поверх листа лежат ключи и стоит яшмовый столбик печати. Красный оттиск немного подтек по влажной бумаге.
![]() Господи боже мой, говорю я, нет. Нет.
Господи боже мой, говорю я, нет. Нет.
![]() Снаружи хлопают белые крылья, пахнет горячим камнем и скошенной травой, а в медовом воздухе плывет колокольный звон.
Снаружи хлопают белые крылья, пахнет горячим камнем и скошенной травой, а в медовом воздухе плывет колокольный звон.