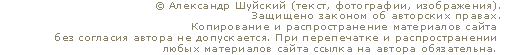к оглавлению
--»
День города
![]() Я вошел в город по воде, я всегда вхожу в город по воде и вместе с водой, - любой город, через который течет вода, ловит за ноги чаек мелкой волной, лижет прозрачным языком ступени набережных, - любой город с водой годится для меня и открыт для меня.
Я вошел в город по воде, я всегда вхожу в город по воде и вместе с водой, - любой город, через который течет вода, ловит за ноги чаек мелкой волной, лижет прозрачным языком ступени набережных, - любой город с водой годится для меня и открыт для меня.
![]() А уж если она плещется в подвалах, поднимается в каналах и реках, затопляет каменные берега, вспучивает краску на домах, оседает моросью на оконных стеклах, то ее город – и вовсе мне друг и брат, даже такой город, как этот, где небо давит на виски, а солнце выходит из-за туч только в редкие летние дни.
А уж если она плещется в подвалах, поднимается в каналах и реках, затопляет каменные берега, вспучивает краску на домах, оседает моросью на оконных стеклах, то ее город – и вовсе мне друг и брат, даже такой город, как этот, где небо давит на виски, а солнце выходит из-за туч только в редкие летние дни.
![]() Я вхожу на рассвете, и свет разливается в небе - молоком в темной воде. Небо становится низким и прозрачным, как изнанка раковины, как белесая плоть моллюска, посреди ее придонного колыхания – взращенным жемчугом – солнце, в котором света не больше, чем в луне, а тепла – еще меньше.
Я вхожу на рассвете, и свет разливается в небе - молоком в темной воде. Небо становится низким и прозрачным, как изнанка раковины, как белесая плоть моллюска, посреди ее придонного колыхания – взращенным жемчугом – солнце, в котором света не больше, чем в луне, а тепла – еще меньше.
![]() Дома вдоль набережной ежатся и тянут на себя одеяло тумана, я слышу их скрип и ворчание: тут снова лопнула штукатурка, а ведь только год назад латали, там обвалилась печная труба, а краска так и вовсе уже ни на что не похожа. Это самые старые дома в городе, но я видал дома и постарше, поэтому их кряхтенье кажется мне трогательным и забавным – тщатся выглядеть стариками, а всего-то по триста лет. Но когда один, ярко-синего цвета с белыми наличниками, кричит спросонок: «Крысы, крысы!» - я кидаюсь к нему и утешаю, и глажу по стертым ступенькам. Хуже крыс для дома только гниль или пожар. И то, как посмотреть.
Дома вдоль набережной ежатся и тянут на себя одеяло тумана, я слышу их скрип и ворчание: тут снова лопнула штукатурка, а ведь только год назад латали, там обвалилась печная труба, а краска так и вовсе уже ни на что не похожа. Это самые старые дома в городе, но я видал дома и постарше, поэтому их кряхтенье кажется мне трогательным и забавным – тщатся выглядеть стариками, а всего-то по триста лет. Но когда один, ярко-синего цвета с белыми наличниками, кричит спросонок: «Крысы, крысы!» - я кидаюсь к нему и утешаю, и глажу по стертым ступенькам. Хуже крыс для дома только гниль или пожар. И то, как посмотреть.
![]() Любой город хорош на рассвете, особенно весной. На улицах – ни души, в шесть утра спят даже самые отчаянные гуляки. Солнце бьет низкими лучами сквозь пряди тумана, в городе дышит каждый камень, воздух подрагивает, слагает призраков из сумерек и света. Особенное, легкое время.
Любой город хорош на рассвете, особенно весной. На улицах – ни души, в шесть утра спят даже самые отчаянные гуляки. Солнце бьет низкими лучами сквозь пряди тумана, в городе дышит каждый камень, воздух подрагивает, слагает призраков из сумерек и света. Особенное, легкое время.
![]() Но этот – этот словно нарочно создан для белесых майских сумерек. Зима, хоть и длилась до конца апреля, наконец-то изгнана. Старая пыль смыта дождями, новой еще не накопилось. Деревья пока прозрачны, но каждое стоит в облаке первой мелкой листвы, а на асфальте полно зеленых гусениц – тополя сбросили сережки. Город замирает, до краев полный весной и белым светом, будто то и другое ему поднесли в подарок, а он ничем не заслужил такой роскоши, даже надеяться не смел, и не верит своему счастью.
Но этот – этот словно нарочно создан для белесых майских сумерек. Зима, хоть и длилась до конца апреля, наконец-то изгнана. Старая пыль смыта дождями, новой еще не накопилось. Деревья пока прозрачны, но каждое стоит в облаке первой мелкой листвы, а на асфальте полно зеленых гусениц – тополя сбросили сережки. Город замирает, до краев полный весной и белым светом, будто то и другое ему поднесли в подарок, а он ничем не заслужил такой роскоши, даже надеяться не смел, и не верит своему счастью.
![]() Я иду вдоль канала, вода сидит в нем непривычно низко, но я чую ее недобрый нрав. Когда-то этот город был обещан ей, ей были назначены каналы вдоль улиц, просторные набережные, пристани, корабли, сады и дворцы у самой воды. А сейчас у набережной ворочается с боку на бок разве что ресторан-плоскодонка с фальшивыми мачтами без оснастки, каналы засыпаны щебнем, сады отступили под натиском доходных домов, а из всех парусников остались только яхты, да и те томятся на самом краю, у большой песчаной косы.
Я иду вдоль канала, вода сидит в нем непривычно низко, но я чую ее недобрый нрав. Когда-то этот город был обещан ей, ей были назначены каналы вдоль улиц, просторные набережные, пристани, корабли, сады и дворцы у самой воды. А сейчас у набережной ворочается с боку на бок разве что ресторан-плоскодонка с фальшивыми мачтами без оснастки, каналы засыпаны щебнем, сады отступили под натиском доходных домов, а из всех парусников остались только яхты, да и те томятся на самом краю, у большой песчаной косы.
![]() Утро оступает, и погода портится. Прозрачное небо затягивают тучи, город темнеет и мрачнеет прямо на глазах. Каменные набережные становятся зыбки, как болото. Всюду пыль, мусор, какие-то обломки. Очертания домов проступают резко, словно скулы на мертвом лице. Здесь явно не помешала бы генеральная уборка, думаю я. Или хотя бы открытая форточка.
Утро оступает, и погода портится. Прозрачное небо затягивают тучи, город темнеет и мрачнеет прямо на глазах. Каменные набережные становятся зыбки, как болото. Всюду пыль, мусор, какие-то обломки. Очертания домов проступают резко, словно скулы на мертвом лице. Здесь явно не помешала бы генеральная уборка, думаю я. Или хотя бы открытая форточка.
![]() Прибирать и проветривать города можно по-всякому, но лучше всего действовать не снаружи, а изнутри. Заставить город перетасоваться и повернуться изнанкой, да встряхнуть ее как следует, чтобы задышала, а с изнанки у всякого города вода, кому как ни мне, знать об этом. Города стоят на реках и заливах, на озерах, на берегах морей. В любой городской воде – примесь соков его жителей, каменные прессы домов выжимают людей досуха, и влага идет на то, чтобы напоить новых, совсем еще бессмысленных младенцев, воду города они получают даже раньше, чем материнское молоко.
Прибирать и проветривать города можно по-всякому, но лучше всего действовать не снаружи, а изнутри. Заставить город перетасоваться и повернуться изнанкой, да встряхнуть ее как следует, чтобы задышала, а с изнанки у всякого города вода, кому как ни мне, знать об этом. Города стоят на реках и заливах, на озерах, на берегах морей. В любой городской воде – примесь соков его жителей, каменные прессы домов выжимают людей досуха, и влага идет на то, чтобы напоить новых, совсем еще бессмысленных младенцев, воду города они получают даже раньше, чем материнское молоко.
![]() В воду уходят те, что держат город, не в землю, а в воду, - из воды же потом поднимаются изредка, когда этому благоприятствует луна или когда вода достаточно высока, чтобы войти по ступеням в город. Из земли могут подняться только городские мертвые. С изнанки воды приходят те, что стали здесь бессмертны.
В воду уходят те, что держат город, не в землю, а в воду, - из воды же потом поднимаются изредка, когда этому благоприятствует луна или когда вода достаточно высока, чтобы войти по ступеням в город. Из земли могут подняться только городские мертвые. С изнанки воды приходят те, что стали здесь бессмертны.
![]() Я раздумываю, не поднять ли мне воду. Этот город молод, но даже за такой срок должен был накопить бессмертных. Куда лучше было бы найти парочку живых хранителей, живых здесь вообще-то довольно много, но ни одного хранителя я что-то не чую. Возможно, я найду их, если заговорю первым. Когда я хочу говорить - я поднимаю воду.
Я раздумываю, не поднять ли мне воду. Этот город молод, но даже за такой срок должен был накопить бессмертных. Куда лучше было бы найти парочку живых хранителей, живых здесь вообще-то довольно много, но ни одного хранителя я что-то не чую. Возможно, я найду их, если заговорю первым. Когда я хочу говорить - я поднимаю воду.
![]() Я перехожу большой мост и вступаю на остров – мне так легче. У меня вообще все лучше получается на островах, к тому же здесь все еще ворчат погребенные каналы. Убивать каналы – все равно, что убивать острова. Я вдруг понимаю, что, наслушавшись жалоб набережных, домов и пыльных улиц, начинаю жалеть вместе с ними и себя, у меня ведь тоже не все так уж ладно. Если подумать, так нет ни одного консилиума, который бы еще не вынес бы мне приговора, венок моих болезней смертелен, конец неотвратим, весь мир против меня, и помощи ждать неоткуда.
Я перехожу большой мост и вступаю на остров – мне так легче. У меня вообще все лучше получается на островах, к тому же здесь все еще ворчат погребенные каналы. Убивать каналы – все равно, что убивать острова. Я вдруг понимаю, что, наслушавшись жалоб набережных, домов и пыльных улиц, начинаю жалеть вместе с ними и себя, у меня ведь тоже не все так уж ладно. Если подумать, так нет ни одного консилиума, который бы еще не вынес бы мне приговора, венок моих болезней смертелен, конец неотвратим, весь мир против меня, и помощи ждать неоткуда.
![]() Я усмехаюсь. Ну и ну, давненько меня не посещали такие мысли. Есть города, которых держит воля, своя или чужая. А есть те, которых держит жалость к себе, опять-таки, своя или чужая. Вот ты и хлебнул ее, этой жалости, как воды из реки. Ладно, говорю я себе, не отвлекайся. Все дело в том, что здесь давно не прибирали.
Я усмехаюсь. Ну и ну, давненько меня не посещали такие мысли. Есть города, которых держит воля, своя или чужая. А есть те, которых держит жалость к себе, опять-таки, своя или чужая. Вот ты и хлебнул ее, этой жалости, как воды из реки. Ладно, говорю я себе, не отвлекайся. Все дело в том, что здесь давно не прибирали.
![]() Май – это уже почти лето, и в приоткрытое окно под самой крышей выдувает кисею занавески. Я знаю, что сейчас будет музыка. На мгновение устанавливается полная тишина, как перед грозой, и я как раз успеваю привстать на цыпочки. А потом на пыльную улицу выплескиваются «Времена года» Вивальди.
Май – это уже почти лето, и в приоткрытое окно под самой крышей выдувает кисею занавески. Я знаю, что сейчас будет музыка. На мгновение устанавливается полная тишина, как перед грозой, и я как раз успеваю привстать на цыпочки. А потом на пыльную улицу выплескиваются «Времена года» Вивальди.
![]() - Да! – кричу я городу, небу и реке, - Да! Можно!
- Да! – кричу я городу, небу и реке, - Да! Можно!
![]() И обушиваю дождь.
И обушиваю дождь.
![]() Сверху несется стена воды, снизу ревет стена воды, реку вспучивает за пять минут, с залива налетает ветер, приносит новые тучи, гонит течение вспять.
Сверху несется стена воды, снизу ревет стена воды, реку вспучивает за пять минут, с залива налетает ветер, приносит новые тучи, гонит течение вспять.
![]() Сначала несмело, будто пробуя мокрой ногой сушу, река карабкается по ступеням, потом все быстрее взбегает вверх, выплескивается на набережные, захватывает тротуары, крутит мусор и уцелевшие от зимы листья. Отовсюду, от топких подвалов, из решетчатых люков, по турбам с крыш, от самого дна реки и самого дна неба несутся, сталкиваются, плещут потоки. И вот уже улочки превратились в каналы, припаркованные машины нелепо тычутся друг в друга, едва касаясь колесами асфальта. Я иду по щиколотку в воде и выкрикиваю что-то в рифму.
Сначала несмело, будто пробуя мокрой ногой сушу, река карабкается по ступеням, потом все быстрее взбегает вверх, выплескивается на набережные, захватывает тротуары, крутит мусор и уцелевшие от зимы листья. Отовсюду, от топких подвалов, из решетчатых люков, по турбам с крыш, от самого дна реки и самого дна неба несутся, сталкиваются, плещут потоки. И вот уже улочки превратились в каналы, припаркованные машины нелепо тычутся друг в друга, едва касаясь колесами асфальта. Я иду по щиколотку в воде и выкрикиваю что-то в рифму.
![]() Из окна с кисеей высовывается голова, смотрит на потоп, затем быстро исчезает. Я слышу топот ног по лестнице. В распахнутом подъезде появляется человек – в джинсах, сандалиях и наспех натянутой футболке. Он смотрит сквозь ливень и воду и произносит с восторгом и ужасом:
Из окна с кисеей высовывается голова, смотрит на потоп, затем быстро исчезает. Я слышу топот ног по лестнице. В распахнутом подъезде появляется человек – в джинсах, сандалиях и наспех натянутой футболке. Он смотрит сквозь ливень и воду и произносит с восторгом и ужасом:
![]() - Ой, что же это я наделал!
- Ой, что же это я наделал!
![]() Меня окатывает этим ужасом и восторгом, как теплой волной зеленого залива. Я хохочу, я совершенно счастлив.
Меня окатывает этим ужасом и восторгом, как теплой волной зеленого залива. Я хохочу, я совершенно счастлив.
![]() - Ах ты паршивец! – раздается у меня за спиной.
- Ах ты паршивец! – раздается у меня за спиной.
![]() Грубые сильные пальцы хватают меня за ухо и тянут вверх.
Грубые сильные пальцы хватают меня за ухо и тянут вверх.
![]() - Ты тут пошто безобразишь, а?
- Ты тут пошто безобразишь, а?
![]() Я вырвался, отскочил и обернулся, готовый убить обидчика.
Я вырвался, отскочил и обернулся, готовый убить обидчика.
![]() Он возвышался надо мной, как башня, на голову выше меня, темный и заросший. Седая шевелюра окружала зеркальную плешь, а усы и борода порыжели от табака и были полны табачных крошек. Одет он был в какие-то лохмотья, в несколько слоев: из-под дворницкого ватника в пятнах выглядывал шитый золотом мундир, блеклые галуны свисали до самой воды и плыли по ней, как змеи. Из-под мундира юбкой торчал кафтан, когда-то хорошего сукна, а теперь весь в прорехах. Из левого рукава выглядывало кружево манжета, правая рука была забинтована, бинт едва угадывался под слоем грязи.
Он возвышался надо мной, как башня, на голову выше меня, темный и заросший. Седая шевелюра окружала зеркальную плешь, а усы и борода порыжели от табака и были полны табачных крошек. Одет он был в какие-то лохмотья, в несколько слоев: из-под дворницкого ватника в пятнах выглядывал шитый золотом мундир, блеклые галуны свисали до самой воды и плыли по ней, как змеи. Из-под мундира юбкой торчал кафтан, когда-то хорошего сукна, а теперь весь в прорехах. Из левого рукава выглядывало кружево манжета, правая рука была забинтована, бинт едва угадывался под слоем грязи.
![]() К тому же, он источал запах. От него махло мочой, сыростью, подгнившей рыбой, горячим постным маслом, стоялой водой и снегом. Но откуда-то, из-за левого плеча или, быть может, из кармана камзола, просачивался запах водорослей в пресной воде, нагретого на солнце песка и цветущего шиповника, и я смягчился. И даже изобразил раскаянье на своей физиономии.
К тому же, он источал запах. От него махло мочой, сыростью, подгнившей рыбой, горячим постным маслом, стоялой водой и снегом. Но откуда-то, из-за левого плеча или, быть может, из кармана камзола, просачивался запах водорослей в пресной воде, нагретого на солнце песка и цветущего шиповника, и я смягчился. И даже изобразил раскаянье на своей физиономии.
![]() - Э, да ты, малец, нездешний, - растерянно сказал старик. – Вот те на. А я тебя за человека принял. А все одно, безобразить нечего.
- Э, да ты, малец, нездешний, - растерянно сказал старик. – Вот те на. А я тебя за человека принял. А все одно, безобразить нечего.
![]() Он внушительно погрозил мне пальцем, а потом обернулся на человека в дверном проеме. Нагнулся, зачерпнул воды и плеснул ему в лицо.
Он внушительно погрозил мне пальцем, а потом обернулся на человека в дверном проеме. Нагнулся, зачерпнул воды и плеснул ему в лицо.
![]() - Кыш домой!
- Кыш домой!
![]() Человек встряхнулся и заморгал, как со сна. Вода стремительно уходила. Человек пожал плечами, усмехнулся сам себе и побрел вверх по лестнице.
Человек встряхнулся и заморгал, как со сна. Вода стремительно уходила. Человек пожал плечами, усмехнулся сам себе и побрел вверх по лестнице.
![]() - Вот так вот! – сказал старик ему вслед. – Нечего тут. И так делов наделали.
- Вот так вот! – сказал старик ему вслед. – Нечего тут. И так делов наделали.
![]() Он махнул мне рукой – иди, мол, за мною, - и вошел в подъезд. В подъезде оказалось неожиданно темно, только угадывалась большая лестница наверх да проход под нее. В конце прохода, будто вырезанный из света, маячил золотой прямоугольник черного хода. Старик шел прямо на него. На пороге он остановился и снова поманил меня.
Он махнул мне рукой – иди, мол, за мною, - и вошел в подъезд. В подъезде оказалось неожиданно темно, только угадывалась большая лестница наверх да проход под нее. В конце прохода, будто вырезанный из света, маячил золотой прямоугольник черного хода. Старик шел прямо на него. На пороге он остановился и снова поманил меня.
![]() - Вишь, что вы наделали-то?
- Вишь, что вы наделали-то?
![]() За черным ходом открывался двор, залитый таким ярким солнцем, что я даже зажмурился. Весь центр занимал крохотный сквер: две скамейки, четыре куста сирени и две дорожки накрест. По двум углам сквера, смыкаясь ветвями, росли исполинские тополя, огромные, выше дома. Асфальт был густо усеян зелеными «сережками».
За черным ходом открывался двор, залитый таким ярким солнцем, что я даже зажмурился. Весь центр занимал крохотный сквер: две скамейки, четыре куста сирени и две дорожки накрест. По двум углам сквера, смыкаясь ветвями, росли исполинские тополя, огромные, выше дома. Асфальт был густо усеян зелеными «сережками».
![]() - А? Каково?
- А? Каково?
![]() Старик снял с пояса огромную связку ключей, апостолу Петру впору, и одним из этих ключей тыкал в сторону двора.
Старик снял с пояса огромную связку ключей, апостолу Петру впору, и одним из этих ключей тыкал в сторону двора.
![]() - Замечательный двор, - сказал я. – Фонтанчик бы еще сюда.
- Замечательный двор, - сказал я. – Фонтанчик бы еще сюда.
![]() - Куда как замечательный, - отозвался старик. Он отпихнул меня с порога, дотянулся до двери черного хода и захлопнул ее, только солнечные щели остались. Вставил ключ в замок и начал поворачивать, приговаривая:
- Куда как замечательный, - отозвался старик. Он отпихнул меня с порога, дотянулся до двери черного хода и захлопнул ее, только солнечные щели остались. Вставил ключ в замок и начал поворачивать, приговаривая:
![]() - Открывают, открывают, закрывай за ними потом. А что открывают, сами не знают.
- Открывают, открывают, закрывай за ними потом. А что открывают, сами не знают.
![]() С каждым поворотом ключа свет в щелях становился слабее, пока вовсе не исчез. Что-то щелкнуло. Запахло сырой штукатуркой и кошками.
С каждым поворотом ключа свет в щелях становился слабее, пока вовсе не исчез. Что-то щелкнуло. Запахло сырой штукатуркой и кошками.
![]() - Да ты просто апостол Петр, - усмехнулся я.
- Да ты просто апостол Петр, - усмехнулся я.
![]() - Куда мне! – отозвался старик польщенно. – Питер я. А за дверью этой не рай, а детство. Таким этот двор был, когда ему три года было. Потому и тополя громадные. В настоящем мире таких нету. Оставить их, - а они прогниют да рухнут, да на дом! Да и солнца я столько не напасусь, неоткуда мне его взять. Пошли, покажу, каков этот двор на самом-то деле.
- Куда мне! – отозвался старик польщенно. – Питер я. А за дверью этой не рай, а детство. Таким этот двор был, когда ему три года было. Потому и тополя громадные. В настоящем мире таких нету. Оставить их, - а они прогниют да рухнут, да на дом! Да и солнца я столько не напасусь, неоткуда мне его взять. Пошли, покажу, каков этот двор на самом-то деле.
![]() Мы вышли из парадного подъезда и свернули в арку. В арке было сумрачно и пахло подгнившими овощами; в самом дворе и свет, и запах слегка усилились. У брандмауэра выстроились мусорные баки с темными лужами под ними. Двор был наглухо залит асфальтом, его перегораживал ряд машин, причем одна из них явно зимовала здесь не первый год.
Мы вышли из парадного подъезда и свернули в арку. В арке было сумрачно и пахло подгнившими овощами; в самом дворе и свет, и запах слегка усилились. У брандмауэра выстроились мусорные баки с темными лужами под ними. Двор был наглухо залит асфальтом, его перегораживал ряд машин, причем одна из них явно зимовала здесь не первый год.
![]() Старик подошел к тому месту стены, куда открывался черный ход, быстро очертил узкий прямоугольник и перечеркнул его от косяка к косяку. В стене появилась старая, рассохшаяся дверь с железной полосой поперек. Я поднял глаза. На верхнем этаже, боком на подоконнике, сидел и курил мой человек. Он смотрел во двор, который только что выглядел совсем иначе, смотрел на машины и трещины в асфальте, и лицо его не выражало ничего, кроме усталости. Питер возился с замком на железной полосе, и я тихонько сказал: «Эй».
Старик подошел к тому месту стены, куда открывался черный ход, быстро очертил узкий прямоугольник и перечеркнул его от косяка к косяку. В стене появилась старая, рассохшаяся дверь с железной полосой поперек. Я поднял глаза. На верхнем этаже, боком на подоконнике, сидел и курил мой человек. Он смотрел во двор, который только что выглядел совсем иначе, смотрел на машины и трещины в асфальте, и лицо его не выражало ничего, кроме усталости. Питер возился с замком на железной полосе, и я тихонько сказал: «Эй».
![]() Солнце ударило в маленький двор, асфальт превратился в желтые плиты мостовой, на крыше проступила черепица, стены покраснели, окна вытянулись вверх, обросли синими ставнями и белыми каменными наличниками. В центре двора появился фонтанчик с питьевой водой, с маленькой мраморной чашей, в чаше плескались голуби. Узкая лестница вела из двора на галерею, опоясывающую дом на уровне второго этажа.
Солнце ударило в маленький двор, асфальт превратился в желтые плиты мостовой, на крыше проступила черепица, стены покраснели, окна вытянулись вверх, обросли синими ставнями и белыми каменными наличниками. В центре двора появился фонтанчик с питьевой водой, с маленькой мраморной чашей, в чаше плескались голуби. Узкая лестница вела из двора на галерею, опоясывающую дом на уровне второго этажа.
![]() Меня снова окатило знакомой волной; сигарета, скуренная наполовину, упала вниз и рассыпалась искрами по асфальту. Я улыбнулся и убрал наваждение. Ко мне с довольным видом обернулся Питер.
Меня снова окатило знакомой волной; сигарета, скуренная наполовину, упала вниз и рассыпалась искрами по асфальту. Я улыбнулся и убрал наваждение. Ко мне с довольным видом обернулся Питер.
![]() - И все крыто-заперто! – объявил он. – Ибо сам Петр Лексеич написал Леблону на чертежах жилых домов: окна да двери делать в два раза уже, понеже у нас не французский климат!
- И все крыто-заперто! – объявил он. – Ибо сам Петр Лексеич написал Леблону на чертежах жилых домов: окна да двери делать в два раза уже, понеже у нас не французский климат!
![]() - Я слыхал, он окно в стене вырубил, когда ему душно показалось, - заметил я, глядя на него.
- Я слыхал, он окно в стене вырубил, когда ему душно показалось, - заметил я, глядя на него.
![]() - Ну, мало ли! – насупился Питер. – Это вообще в Голландии было, потом легендами обросло. А скажи-ка лучше, откуда ты взялся. С виду – малец совсем. Из тех краев, что ли? Сателлит при столице?
- Ну, мало ли! – насупился Питер. – Это вообще в Голландии было, потом легендами обросло. А скажи-ка лучше, откуда ты взялся. С виду – малец совсем. Из тех краев, что ли? Сателлит при столице?
![]() - Ну, вроде того, - рассмеялся я. – Уж не Рим, во всяком случае!
- Ну, вроде того, - рассмеялся я. – Уж не Рим, во всяком случае!
![]() - Ты на праздник, что ли, прибыл?
- Ты на праздник, что ли, прибыл?
![]() - Я просто путешествую. А что за праздник?
- Я просто путешествую. А что за праздник?
![]() Питер приосанился.
Питер приосанился.
![]() - День рождения мой завтра празднуют. Весь город во флагах да штандартах, ночью корабли придут, карнавал будет. Фонтаны пустят, которые еще не пустили.
- День рождения мой завтра празднуют. Весь город во флагах да штандартах, ночью корабли придут, карнавал будет. Фонтаны пустят, которые еще не пустили.
![]() - Фонтаны! – протянул я почти завистливо. – Здорово как. Я бы посмотрел.
- Фонтаны! – протянул я почти завистливо. – Здорово как. Я бы посмотрел.
![]() - Так ведь и сейчас многие работают. У Адмиралтейства, да на Невском, да много где. Ты что ж там, не был еще?
- Так ведь и сейчас многие работают. У Адмиралтейства, да на Невском, да много где. Ты что ж там, не был еще?
![]() Я отрицательно помотал головой. Питер улыбнулся и сделал широкий жест.
Я отрицательно помотал головой. Питер улыбнулся и сделал широкий жест.
![]() - Добро пожаловать, гость заморский. Пойдем, покажу тебе все.
- Добро пожаловать, гость заморский. Пойдем, покажу тебе все.
![]() Мы выходим к набережной и идем мимо барж, груженых лесом, мимо большого моста, за которым вдруг возникают фигуры двух сфинксов («Египетские, за великие деньги перекупили у французов!»), мимо дворцов и скверов. Питер перечисляет: Академия художеств, Румянцевский сад, дворец Меньшикова, манеж, Университет. Всюду колонны, лепнина, большие окна в частых переплетах. Даже не верится, что я только что вышел из вонючего двора, где всех украшений – мятые водосточные трубы.
Мы выходим к набережной и идем мимо барж, груженых лесом, мимо большого моста, за которым вдруг возникают фигуры двух сфинксов («Египетские, за великие деньги перекупили у французов!»), мимо дворцов и скверов. Питер перечисляет: Академия художеств, Румянцевский сад, дворец Меньшикова, манеж, Университет. Всюду колонны, лепнина, большие окна в частых переплетах. Даже не верится, что я только что вышел из вонючего двора, где всех украшений – мятые водосточные трубы.
![]() - Вот были люди – цари, полководцы, европейские светила! – сетует Питер. - А нынешние что? Измельчали. Не люблю нынешних людей. То есть не то что не люблю, - не понимаю. Ведь живут среди такой роскоши, так хоть ценили бы! Нет, им все мало. И рушат, рушат, старое рушат, а новое строят такое, что уж лучше бы дыра оставалась. Живут у меня, как у Христа за пазухой, а порядку все не знают.
- Вот были люди – цари, полководцы, европейские светила! – сетует Питер. - А нынешние что? Измельчали. Не люблю нынешних людей. То есть не то что не люблю, - не понимаю. Ведь живут среди такой роскоши, так хоть ценили бы! Нет, им все мало. И рушат, рушат, старое рушат, а новое строят такое, что уж лучше бы дыра оставалась. Живут у меня, как у Христа за пазухой, а порядку все не знают.
![]() Я вижу, что он просто жалуется, что никакие мои соображения на тему воспитания любых тварей, населяющих тебя, - что двуногих, что в шерсти, что в перьях, - ему совсем не нужны. Я это вижу, но все равно говорю:
Я вижу, что он просто жалуется, что никакие мои соображения на тему воспитания любых тварей, населяющих тебя, - что двуногих, что в шерсти, что в перьях, - ему совсем не нужны. Я это вижу, но все равно говорю:
![]() - Так избавься от них.
- Так избавься от них.
![]() - То есть как это? Они же жители. Граждане. Всякому городу нужны граждане, без граждан никак. Да и жалко их.
- То есть как это? Они же жители. Граждане. Всякому городу нужны граждане, без граждан никак. Да и жалко их.
![]() - По мне, если своих граждан просто терпишь, так уж лучше без них. Они же чуят, что терпишь. И всегда ими недоволен.
Он хмурится, смотрит исподлобья.
- По мне, если своих граждан просто терпишь, так уж лучше без них. Они же чуят, что терпишь. И всегда ими недоволен.
Он хмурится, смотрит исподлобья.
![]() - А ты? У тебя-то что, граждан нет? Или они сплошь ангелы?
- А ты? У тебя-то что, граждан нет? Или они сплошь ангелы?
![]() - У меня живут только те, кто не может не жить у меня, - отвечаю я, и Питер неодобрительно крутит головой.
- У меня живут только те, кто не может не жить у меня, - отвечаю я, и Питер неодобрительно крутит головой.
![]() - Немного ж у тебя, видать, жителей.
- Немного ж у тебя, видать, жителей.
![]() - Немного. Жить у меня непросто.
- Немного. Жить у меня непросто.
![]() Питер внезапно останавливается, выпрямляется во весь рост. И тотчас становится похож на шпиль Петропавловской колокольни: светлая игла, вонзенная в небо.
Питер внезапно останавливается, выпрямляется во весь рост. И тотчас становится похож на шпиль Петропавловской колокольни: светлая игла, вонзенная в небо.
![]() - Я бы хотел, чтобы у меня можно было просто жить. Просто жить и все, - говорит он с неожиданной тоской. – Но, видно, не судьба мне. Слишком близко болота, слишком близко небо. Вот все и прыгают выше своей головы, да скоро выдыхаются, потому как чем выше прыгают, тем глубже вязнут. Ожесточаются, упрямятся. А знаешь ведь, что случается с теми, кто лезет на небо из одного только упрямства?
- Я бы хотел, чтобы у меня можно было просто жить. Просто жить и все, - говорит он с неожиданной тоской. – Но, видно, не судьба мне. Слишком близко болота, слишком близко небо. Вот все и прыгают выше своей головы, да скоро выдыхаются, потому как чем выше прыгают, тем глубже вязнут. Ожесточаются, упрямятся. А знаешь ведь, что случается с теми, кто лезет на небо из одного только упрямства?
![]() - Они утрачивают язык и перестают понимать кого-либо, кроме себя, - отвечаю я.
- Они утрачивают язык и перестают понимать кого-либо, кроме себя, - отвечаю я.
![]() - Именно так, - говорит он.
- Именно так, - говорит он.
![]() Небо будто давит ему на плечи, он снова сутулится, смотрит на воду. От воды несет холодом. Мосты тянутся к садам и дворцам, как цветы к теплу, тянутся и не могут дотянуться. Огромный всадник громоздится через реку над набережной, постамент его – кусок гранита, а кажется, что облако. Вот-вот сорвется с него, поскачет по воде, аки посуху, только бабки коню замочит.
Небо будто давит ему на плечи, он снова сутулится, смотрит на воду. От воды несет холодом. Мосты тянутся к садам и дворцам, как цветы к теплу, тянутся и не могут дотянуться. Огромный всадник громоздится через реку над набережной, постамент его – кусок гранита, а кажется, что облако. Вот-вот сорвется с него, поскачет по воде, аки посуху, только бабки коню замочит.
![]() - Вот ради этой красоты, - говорит Питер, - полегло здесь столько народу, что до сих пор их кости держат болота. На мощах мучеников стою, как собор какой.
- Вот ради этой красоты, - говорит Питер, - полегло здесь столько народу, что до сих пор их кости держат болота. На мощах мучеников стою, как собор какой.
![]() Я смотрю на золотой купол большого храма, на красные клены на площади вокруг всадника, на бело-зеленый органный угол дворца за мостом и думаю, что, по-моему, дело стоило того.
Я смотрю на золотой купол большого храма, на красные клены на площади вокруг всадника, на бело-зеленый органный угол дворца за мостом и думаю, что, по-моему, дело стоило того.
![]() Между тем мой человек сменил сандалии на кроссовки, а футболку – на свитер и джинсовую куртку, и вышел из дома. Я догадался, куда он идет. Куда-нибудь, где продаются карты иноземных городов. Я спросил у Питера, где это может быть, узнал, что примерно в ту сторону мы направляемся, и послушно пошел за ним через мост. А он все рассказывал и рассказывал. Про балы до утра, про пожары, про наводнения, про веселое времечко. «Я столицей был, понимаешь ты, столицей, тебе, мальцу, и не понять, что такое быть столицей. Я молодой был, красивый, дворцы, сады, фонтаны, куда ни глянь. И мосты, и набережные». – «А потом?» - спросил я. Питер помрачнел.
Между тем мой человек сменил сандалии на кроссовки, а футболку – на свитер и джинсовую куртку, и вышел из дома. Я догадался, куда он идет. Куда-нибудь, где продаются карты иноземных городов. Я спросил у Питера, где это может быть, узнал, что примерно в ту сторону мы направляемся, и послушно пошел за ним через мост. А он все рассказывал и рассказывал. Про балы до утра, про пожары, про наводнения, про веселое времечко. «Я столицей был, понимаешь ты, столицей, тебе, мальцу, и не понять, что такое быть столицей. Я молодой был, красивый, дворцы, сады, фонтаны, куда ни глянь. И мосты, и набережные». – «А потом?» - спросил я. Питер помрачнел.
![]() - А потом пришли нигилисты эти, безбожники, установили новые порядки, да и отдали столицу Москве. У меня тогда кто не уехал, тот в блокаду погиб. Переименовывали меня дважды, бездельники. Ну да я все равно выстоял. Святой Петр-апостол мне покровитель и защита, и, как меня не зови, был я и есть Питер, сиречь камень. Камнем только и жив, не будь его, давно вода бы затопила. Знаешь, какие наводнения у меня тут бывали! Каждый раз думаю: все, конец мне настал. Но ничего, как-то обходится.
- А потом пришли нигилисты эти, безбожники, установили новые порядки, да и отдали столицу Москве. У меня тогда кто не уехал, тот в блокаду погиб. Переименовывали меня дважды, бездельники. Ну да я все равно выстоял. Святой Петр-апостол мне покровитель и защита, и, как меня не зови, был я и есть Питер, сиречь камень. Камнем только и жив, не будь его, давно вода бы затопила. Знаешь, какие наводнения у меня тут бывали! Каждый раз думаю: все, конец мне настал. Но ничего, как-то обходится.
![]() Я удивился.
Я удивился.
![]() - Стоишь на воде и боишься воды?
- Стоишь на воде и боишься воды?
![]() - Как же ее не бояться, если она за каждой дверью? И дети эти, несмышленыши, так и норовят все пооткрывать.
- Как же ее не бояться, если она за каждой дверью? И дети эти, несмышленыши, так и норовят все пооткрывать.
![]() - О ком это ты?
- О ком это ты?
![]() - Да обо всех этих малолетках, что ходы открывают. Ты ж только что видел одного. Ну, от него пока вреда немного, он мечтатель. А такие феномены попадаются, куда там Калиостро! Вот, к примеру, идет такой через темные дворы, а мысли у него Бог знает где витают. Да и выйдет в задумчивости в арку, которой на том месте отродясь не было. И хорошо еще, если просто пройдет, а если потеряет что-нибудь, или, еще хуже, принесет оттуда? Так-то любую дыру несложно зарастить, а после обмена – поди, закрой ее. Вот я и занимаю их, чем могу, штучки разные подсовываю, фокусы показываю, лишь бы заняты были. Ты чего так смотришь? Не слыхал, что ли, об изнанке городской?
- Да обо всех этих малолетках, что ходы открывают. Ты ж только что видел одного. Ну, от него пока вреда немного, он мечтатель. А такие феномены попадаются, куда там Калиостро! Вот, к примеру, идет такой через темные дворы, а мысли у него Бог знает где витают. Да и выйдет в задумчивости в арку, которой на том месте отродясь не было. И хорошо еще, если просто пройдет, а если потеряет что-нибудь, или, еще хуже, принесет оттуда? Так-то любую дыру несложно зарастить, а после обмена – поди, закрой ее. Вот я и занимаю их, чем могу, штучки разные подсовываю, фокусы показываю, лишь бы заняты были. Ты чего так смотришь? Не слыхал, что ли, об изнанке городской?
![]() - Слыхал, почему же нет, - осторожно ответил я. – У каждого города старше ста лет она есть. Бывает, и раньше наращивают. Только что плохого в том, что на изнанку проходят люди?
- Слыхал, почему же нет, - осторожно ответил я. – У каждого города старше ста лет она есть. Бывает, и раньше наращивают. Только что плохого в том, что на изнанку проходят люди?
![]() - А то, что она у меня и так вся в дырах. Вода-то рвется оттуда ко мне, ей только щелочку приоткрой, - сразу хлынет. А это тебе не Нева, там вода другая. Хлебнешь ее – навек разум потеряешь.
- А то, что она у меня и так вся в дырах. Вода-то рвется оттуда ко мне, ей только щелочку приоткрой, - сразу хлынет. А это тебе не Нева, там вода другая. Хлебнешь ее – навек разум потеряешь.
![]() Я едва верил своим ушам. Столетия подряд вода изнанки городов давала силу магам и колдунам, да и целители ею не брезговали. Хотя да, отведав эту воду единый раз, уже никогда не могли видеть мир прежним, но ведь за тем и шли. «Разум потеряешь», надо же. Неудивительно, что у него вся изнанка в дырах, подумал я, заделывают-то ее маги, и уж конечно же не с лицевой стороны.
Я едва верил своим ушам. Столетия подряд вода изнанки городов давала силу магам и колдунам, да и целители ею не брезговали. Хотя да, отведав эту воду единый раз, уже никогда не могли видеть мир прежним, но ведь за тем и шли. «Разум потеряешь», надо же. Неудивительно, что у него вся изнанка в дырах, подумал я, заделывают-то ее маги, и уж конечно же не с лицевой стороны.
![]() Питер меж тем продолжал ворчливо:
Питер меж тем продолжал ворчливо:
![]() - Уж и не знаю, откуда они берутся на мою голову. Желторотые, дети бессмысленные, им бы в университетах над книжками сидеть, а они – в мистику. А потом по весне, то одного из петли вынут, то другая на Петровской косе всплывет. А все от мистики, от Елагинских бредней. Был у меня такой, колдовал у себя на острове, все в мальтийцы рвался. Хлопотал, да так ничего и не выхлопотал. Оно и слава Богу. Не верю я во франкмазонство это, в колдовство да мистику.
- Уж и не знаю, откуда они берутся на мою голову. Желторотые, дети бессмысленные, им бы в университетах над книжками сидеть, а они – в мистику. А потом по весне, то одного из петли вынут, то другая на Петровской косе всплывет. А все от мистики, от Елагинских бредней. Был у меня такой, колдовал у себя на острове, все в мальтийцы рвался. Хлопотал, да так ничего и не выхлопотал. Оно и слава Богу. Не верю я во франкмазонство это, в колдовство да мистику.
![]() - Хм, - сказал я, пряча улыбку, - В мистику не веришь, а двери на всякий случай запираешь?
- Хм, - сказал я, пряча улыбку, - В мистику не веришь, а двери на всякий случай запираешь?
![]() - А как же, - отозвался он. - Ведь поналезет же всякого. Мне и своих привидений хватает, в иных домах их до десятка. Да Лишний мост этот еще.
- А как же, - отозвался он. - Ведь поналезет же всякого. Мне и своих привидений хватает, в иных домах их до десятка. Да Лишний мост этот еще.
![]() - Что за Лишний мост?
- Что за Лишний мост?
![]() - А появляется иногда. То от Сенатской, то от Коломны. Куда уводит – бес его знает. Кто по нему ни ходил – ни один не вернулся. Я иногда малолеток нарочно к нему вывожу. Уходят, как миленькие. Плачут, а уходят. И лучше так, чем в петлю.
- А появляется иногда. То от Сенатской, то от Коломны. Куда уводит – бес его знает. Кто по нему ни ходил – ни один не вернулся. Я иногда малолеток нарочно к нему вывожу. Уходят, как миленькие. Плачут, а уходят. И лучше так, чем в петлю.
![]() Я хорошо знал, куда они уходят. Кто-то так и пропадал в пустоте, но некоторые выкарабкивались. Но до сих пор я не знал, откуда они приходили. Сквозные, легкие люди. Реальность плавится вокруг них, как в жерле вулкана, все, что угодно, можно вылепить в их присутствии. Любой город мечтает заполучить такого странника и оставить у себя хотя бы на время. А этот – спроваживает. Ну и ну.
Я хорошо знал, куда они уходят. Кто-то так и пропадал в пустоте, но некоторые выкарабкивались. Но до сих пор я не знал, откуда они приходили. Сквозные, легкие люди. Реальность плавится вокруг них, как в жерле вулкана, все, что угодно, можно вылепить в их присутствии. Любой город мечтает заполучить такого странника и оставить у себя хотя бы на время. А этот – спроваживает. Ну и ну.
![]() - Но как же ты сам без Сквозных людей?
- Но как же ты сам без Сквозных людей?
![]() - Что еще за сквозные люди? – насторожился Питер.
- Что еще за сквозные люди? – насторожился Питер.
![]() - Люди-сквозняки. Люди, через которых дует ветер, с лицевой стороны мира на изнанку и наоборот. Люди-форточки, люди-окна. Через них смотрят другие миры в этот, через них этот мир отваживается смотреть на других. Держатели, хранители. Те, в кого вырастают твои несмышленыши, как ты их называешь. Если выживают, конечно. Самые лучшие – настоящие флейты в руках Того, Кто играет.
- Люди-сквозняки. Люди, через которых дует ветер, с лицевой стороны мира на изнанку и наоборот. Люди-форточки, люди-окна. Через них смотрят другие миры в этот, через них этот мир отваживается смотреть на других. Держатели, хранители. Те, в кого вырастают твои несмышленыши, как ты их называешь. Если выживают, конечно. Самые лучшие – настоящие флейты в руках Того, Кто играет.
![]() Сказал – и тут же пожалел об этом. Питер навис надо мной, как нависал давеча на острове, упер руки в бока и прошипел сквозь зубы:
Сказал – и тут же пожалел об этом. Питер навис надо мной, как нависал давеча на острове, упер руки в бока и прошипел сквозь зубы:
![]() - Ты мне голову не морочь! Ничего не выходит из этих ворожей! Добро еще, если их удается к ремеслу какому приспособить, по дереву там или камню, вон, Мухинское да Академия художеств, учись, твори на здоровье! А угодно Господу послужить, так иди, дружок, в семинарию! Слышать не хочу об этих безобразиях! Молод ты еще, о Божьих флейтах рассуждать! У тебя, небось, этого народу нету. Из них выживает один на дюжину, если хочешь знать!
- Ты мне голову не морочь! Ничего не выходит из этих ворожей! Добро еще, если их удается к ремеслу какому приспособить, по дереву там или камню, вон, Мухинское да Академия художеств, учись, твори на здоровье! А угодно Господу послужить, так иди, дружок, в семинарию! Слышать не хочу об этих безобразиях! Молод ты еще, о Божьих флейтах рассуждать! У тебя, небось, этого народу нету. Из них выживает один на дюжину, если хочешь знать!
![]() - Я знаю. Но этот один... – начал было я, но он меня перебил.
- Я знаю. Но этот один... – начал было я, но он меня перебил.
![]() - А с остальными мне что делать? Смотреть, как они себя губят пьянством да бабами или еще чем похуже? Я лучше смолоду у них эту дурь выбью!
- А с остальными мне что делать? Смотреть, как они себя губят пьянством да бабами или еще чем похуже? Я лучше смолоду у них эту дурь выбью!
![]() Я прикусил язык. Этих я тоже видел. Место под сквозняк у них остается, но оно забито со всех сторон. Его затыкают чем попало: когда придуманными героями, а когда и живыми людьми. И оно вечно голодно, это место. И всегда болит. Поэтому тех, кем его кормят, приходится менять очень часто или держать целую свиту.
Я прикусил язык. Этих я тоже видел. Место под сквозняк у них остается, но оно забито со всех сторон. Его затыкают чем попало: когда придуманными героями, а когда и живыми людьми. И оно вечно голодно, это место. И всегда болит. Поэтому тех, кем его кормят, приходится менять очень часто или держать целую свиту.
![]() - Вот он, твой Дом Книги, - сказал вдруг Питер. - Вот этот, с глобусом. И запомни. Запомни хорошенько: я не виноват. Ни в тех смертях, на которых меня построили, ни во всех тех, что потом, особенно осенью. Я в них не виноват. Хорошо это запомни. Ясно тебе?
- Вот он, твой Дом Книги, - сказал вдруг Питер. - Вот этот, с глобусом. И запомни. Запомни хорошенько: я не виноват. Ни в тех смертях, на которых меня построили, ни во всех тех, что потом, особенно осенью. Я в них не виноват. Хорошо это запомни. Ясно тебе?
![]() - Ясно, - сказал я. – Я тебя и не виню. А сейчас извини, я хотел бы побыть один.
- Ясно, - сказал я. – Я тебя и не виню. А сейчас извини, я хотел бы побыть один.
![]() Он посмотрел на меня почти испуганно, видно, почуял неладное. Когда я зол, я очень скор на расправу, хотя с годами научился сдерживаться.
Он посмотрел на меня почти испуганно, видно, почуял неладное. Когда я зол, я очень скор на расправу, хотя с годами научился сдерживаться.
![]() - Ты хотел фонтаны посмотреть, - сказал Питер совсем другим тоном. – И корабли. Ты не гневайся на меня, старика. Я врать не умею, все, как есть говорю. Придешь потом на набережную?
- Ты хотел фонтаны посмотреть, - сказал Питер совсем другим тоном. – И корабли. Ты не гневайся на меня, старика. Я врать не умею, все, как есть говорю. Придешь потом на набережную?
![]() - Приду, - пообещал я, и Питер сразу приободрился.
- Приду, - пообещал я, и Питер сразу приободрился.
![]() - Ну и славно. А мне, кстати, нужно на Дворцовой за рабочими присмотреть. Ты погуляй тут один пока.
- Ну и славно. А мне, кстати, нужно на Дворцовой за рабочими присмотреть. Ты погуляй тут один пока.
![]() Он отпускает меня почти величественным жестом, поворачивается и уходит.
Он отпускает меня почти величественным жестом, поворачивается и уходит.
![]() А я прохожу мимо дома со стеклянной башней на углу, мимо его огромных витрин и дверей с массивными бронзовыми ручками, иду вдоль канала до пешеходного моста, встаю посреди него и смотрю на воду. Я смотрю в темные глубины канала до тех пор, пока мне не становится легче.
А я прохожу мимо дома со стеклянной башней на углу, мимо его огромных витрин и дверей с массивными бронзовыми ручками, иду вдоль канала до пешеходного моста, встаю посреди него и смотрю на воду. Я смотрю в темные глубины канала до тех пор, пока мне не становится легче.
![]() - Вы напрасно так сердитесь на него, Серениссима, - говорит вдруг человек, стоящий рядом со мной.
- Вы напрасно так сердитесь на него, Серениссима, - говорит вдруг человек, стоящий рядом со мной.
![]() Я поднимаю голову. Я не заметил, как он подошел. Он стоит, опершись локтями о перила моста и говорит вниз, словно обращается к воде канала. Он уже не молод, но еще совсем не стар. В разгар питерского мая на нем длинное темное пальто и перчатки, и если он не местный житель, то, во всяком случае, хорошо знал, куда едет. Он чуть косит в мою сторону глаз, заговорщически усмехается - и вот тогда я узнаю его. Этот сквозняк не спутаешь ни с каким другим, я почти чувствую запах белой полыни и мяты.
Я поднимаю голову. Я не заметил, как он подошел. Он стоит, опершись локтями о перила моста и говорит вниз, словно обращается к воде канала. Он уже не молод, но еще совсем не стар. В разгар питерского мая на нем длинное темное пальто и перчатки, и если он не местный житель, то, во всяком случае, хорошо знал, куда едет. Он чуть косит в мою сторону глаз, заговорщически усмехается - и вот тогда я узнаю его. Этот сквозняк не спутаешь ни с каким другим, я почти чувствую запах белой полыни и мяты.
![]() - Я вас помню, - говорю я вместо приветствия. И поясняю: – Я не сержусь. Но я не понимаю. Как будто их двое. И один отрицает другого, и обоим душно друг с другом.
- Я вас помню, - говорю я вместо приветствия. И поясняю: – Я не сержусь. Но я не понимаю. Как будто их двое. И один отрицает другого, и обоим душно друг с другом.
![]() - Я здесь родился, - отвечает он. – От этого невозможно отказаться. И родись я где-то еще, я был бы чем-то другим. Вы понимаете, его строили как окно, как мост, как переход, - из одного мира в другой. Это тяжкая ноша. Другие города становятся мостами постепенно, и то, если захотят, а его никто не спрашивал. Выдернули за волосы из болота, как Мюнхгаузена, даже опомниться не дали. Вот он и ворчит, и мается. Он бы и рад пожить спокойно, но суть его такова, что здесь рождается великое множество поэтов и беглецов. Не так-то просто воспитать из них Сквозных людей, особенно, когда толком не знаешь, кого воспитываешь. Поэтому многие не выживают. А те, кто выжил, как правило, стараются уехать. Но рождаются-то они здесь.
- Я здесь родился, - отвечает он. – От этого невозможно отказаться. И родись я где-то еще, я был бы чем-то другим. Вы понимаете, его строили как окно, как мост, как переход, - из одного мира в другой. Это тяжкая ноша. Другие города становятся мостами постепенно, и то, если захотят, а его никто не спрашивал. Выдернули за волосы из болота, как Мюнхгаузена, даже опомниться не дали. Вот он и ворчит, и мается. Он бы и рад пожить спокойно, но суть его такова, что здесь рождается великое множество поэтов и беглецов. Не так-то просто воспитать из них Сквозных людей, особенно, когда толком не знаешь, кого воспитываешь. Поэтому многие не выживают. А те, кто выжил, как правило, стараются уехать. Но рождаются-то они здесь.
![]() - Лежат только почему-то потом на Сан-Микеле, - сварливо отвечаю я. И добавляю тоном ниже: - Вы ведь тоже больше здесь не живете.
- Лежат только почему-то потом на Сан-Микеле, - сварливо отвечаю я. И добавляю тоном ниже: - Вы ведь тоже больше здесь не живете.
![]() - Я и у вас не живу, - возражает он. – Но ведь вам это и не нужно. Вам нужны те, кто изо всех сил бы хотел, чтобы вы жили. А где они при этом живут – какая разница.
- Я и у вас не живу, - возражает он. – Но ведь вам это и не нужно. Вам нужны те, кто изо всех сил бы хотел, чтобы вы жили. А где они при этом живут – какая разница.
![]() - Это правда, - говорю я.
- Это правда, - говорю я.
![]() Я помню, как он пришел. Как кружил по улицам и площадам, как заглядывал во все дворы, как перебирал ракушки на взморье. Как трогал каждый камень, сидел на ступенях и в маленьких кафе. Я помню, какой ветер поднялся за те три дня, что он у меня пробыл, свежий ветер, пахнущий мятой и белой полынью. Я выкладывал перед ним одно свое сокровище за другим, купался в его изумлении и ликовал: мой человек, мой, навеки мой. И где он при этом живет – какая разница, все равно он мой.
- Так вот, - говорит он, - Питеру тоже очень нужны такие люди, но он еще слишком молод, чтобы признать это. С его точки зрения, с нас нет никакого толку, ведь мы очень быстро кончаемся. Но это неважно, понимаете? Лишний мост – такая же часть Питера, как и белые ночи, как крики чаек сквозь утренний туман, как закатное солнце на крышах за Петропавловкой. Как все его башни, все каналы и печные трубы.
Я помню, как он пришел. Как кружил по улицам и площадам, как заглядывал во все дворы, как перебирал ракушки на взморье. Как трогал каждый камень, сидел на ступенях и в маленьких кафе. Я помню, какой ветер поднялся за те три дня, что он у меня пробыл, свежий ветер, пахнущий мятой и белой полынью. Я выкладывал перед ним одно свое сокровище за другим, купался в его изумлении и ликовал: мой человек, мой, навеки мой. И где он при этом живет – какая разница, все равно он мой.
- Так вот, - говорит он, - Питеру тоже очень нужны такие люди, но он еще слишком молод, чтобы признать это. С его точки зрения, с нас нет никакого толку, ведь мы очень быстро кончаемся. Но это неважно, понимаете? Лишний мост – такая же часть Питера, как и белые ночи, как крики чаек сквозь утренний туман, как закатное солнце на крышах за Петропавловкой. Как все его башни, все каналы и печные трубы.
![]() Я смотрю с узкого мостика на Невский. Солнце клонится к западу, его затягивает дымкой. Шпиль собора над каналом мягко светится в этой дымке, блик отражается в черной воде, громадная колоннада обнимает полукруглую площадь, будто большими темными руками. Из дома с глобусом выходит мой утренний знакомец, в руках у него пакет с книжками. Он идет вдоль канала, спускается к воде, садится на гранитную ступеньку и раскладывает на коленях книжки и карту, начинает искать по карте, сверяясь с книжками.
Я смотрю с узкого мостика на Невский. Солнце клонится к западу, его затягивает дымкой. Шпиль собора над каналом мягко светится в этой дымке, блик отражается в черной воде, громадная колоннада обнимает полукруглую площадь, будто большими темными руками. Из дома с глобусом выходит мой утренний знакомец, в руках у него пакет с книжками. Он идет вдоль канала, спускается к воде, садится на гранитную ступеньку и раскладывает на коленях книжки и карту, начинает искать по карте, сверяясь с книжками.
![]() - Можете вы сделать для меня одну вещь? – говорю я человеку в темном пальто.
- Можете вы сделать для меня одну вещь? – говорю я человеку в темном пальто.
![]() - Все, что угодно, Серениссима.
- Все, что угодно, Серениссима.
![]() Я прошу у него блокнот и ручку, пишу на листе бумаги три слова. А потом вручаю ему этот лист и стеклянное пресс-папье. Киваю на свое новое приобретение. Он смеется, да так, что вода подскакивает сразу на ступеньку вверх. И уходит вдоль канала.
Я прошу у него блокнот и ручку, пишу на листе бумаги три слова. А потом вручаю ему этот лист и стеклянное пресс-папье. Киваю на свое новое приобретение. Он смеется, да так, что вода подскакивает сразу на ступеньку вверх. И уходит вдоль канала.
![]() А у меня за спиной немедленно возникает Питер.
А у меня за спиной немедленно возникает Питер.
![]() - Опять вода поднимается, - говорит он. – Твоих рук дело? Не вздумай!
- Опять вода поднимается, - говорит он. – Твоих рук дело? Не вздумай!
![]() - Не беспокойся, - говорю я мягко. – Все будет хорошо. Пойдем лучше к набережной. Ты хотел показать мне корабли.
- Не беспокойся, - говорю я мягко. – Все будет хорошо. Пойдем лучше к набережной. Ты хотел показать мне корабли.
![]() Я сижу на гранитном парапете у большого дворца, щурюсь на закатное солнце за Стрелкой Васильевского и болтаю ногами. У меня все получилось. В комнате за кисейной занавеской, на столе у окна, лежит карта, на ней – острова, острова, острова. Рисунок островов складывается в две руки, крепко держащие друг друга. Поверх карты - лист бумаги под стеклянным пресс-папье – прозрачная водяная капля, приплюснутая со дна, в цветных крапинках внутри и снаружи, детище Мурано. На листе наискось написано: «Fondamenta degli Incurabili». У меня все получилось. Скоро, очень скоро ноги в сандалиях и потертых джинсах пойдут по Лишнему мосту. И где бы они с тех пор не шли, они всегда будут идти вдоль воды и фонарей, по серой и желтоватой брусчатке, а вода будет ластиться к ногам.
Я сижу на гранитном парапете у большого дворца, щурюсь на закатное солнце за Стрелкой Васильевского и болтаю ногами. У меня все получилось. В комнате за кисейной занавеской, на столе у окна, лежит карта, на ней – острова, острова, острова. Рисунок островов складывается в две руки, крепко держащие друг друга. Поверх карты - лист бумаги под стеклянным пресс-папье – прозрачная водяная капля, приплюснутая со дна, в цветных крапинках внутри и снаружи, детище Мурано. На листе наискось написано: «Fondamenta degli Incurabili». У меня все получилось. Скоро, очень скоро ноги в сандалиях и потертых джинсах пойдут по Лишнему мосту. И где бы они с тех пор не шли, они всегда будут идти вдоль воды и фонарей, по серой и желтоватой брусчатке, а вода будет ластиться к ногам.
![]() Рядом со мной стоит Питер, крошит хлеб. Пальцы у него узкие, мосластые, с ровными, хоть и грязноватыми ногтями. К вечеру потеплело, он снял свой ужасный ватник, и теперь солнце золотит шитье на старом мундире. Из решетки люка вылезает большущая мокрая крыса, Питер подзывает ее, как кошку: иди сюда, дружочек, иди, я тебя поглажу. Крыса опасливо косится на меня, хватает большой кусок булки и убегает. Чайки и голуби топчутся поодаль, ждут, когда можно будет подойти.
Рядом со мной стоит Питер, крошит хлеб. Пальцы у него узкие, мосластые, с ровными, хоть и грязноватыми ногтями. К вечеру потеплело, он снял свой ужасный ватник, и теперь солнце золотит шитье на старом мундире. Из решетки люка вылезает большущая мокрая крыса, Питер подзывает ее, как кошку: иди сюда, дружочек, иди, я тебя поглажу. Крыса опасливо косится на меня, хватает большой кусок булки и убегает. Чайки и голуби топчутся поодаль, ждут, когда можно будет подойти.
![]() Питер кидает им целую россыпь крошек.
Питер кидает им целую россыпь крошек.
![]() - Да нет, ты не подумай, я не жалуюсь, у меня, вишь, все хорошо. Птицы вот только совсем одолели, гадят, несчастные. Наедятся дряни на помойках – и на памятники да на карнизы. Чистишь, чистишь, все без толку.
- Да нет, ты не подумай, я не жалуюсь, у меня, вишь, все хорошо. Птицы вот только совсем одолели, гадят, несчастные. Наедятся дряни на помойках – и на памятники да на карнизы. Чистишь, чистишь, все без толку.
![]() Я не очень-то люблю птиц, особенно голубей. Чайки еще куда ни шло, а вот голуби – сущие помоечные крысы, только в перьях. И уж конечно, если они живут в городе, то должны знать свое место. Я кошусь на Питера, - он в самом деле не знает, что делать с гадящими птицами? Или просто снова жалуется, и никакой совет ему на самом деле не нужен? Ладно, скажу, там пусть сам решает.
Я не очень-то люблю птиц, особенно голубей. Чайки еще куда ни шло, а вот голуби – сущие помоечные крысы, только в перьях. И уж конечно, если они живут в городе, то должны знать свое место. Я кошусь на Питера, - он в самом деле не знает, что делать с гадящими птицами? Или просто снова жалуется, и никакой совет ему на самом деле не нужен? Ладно, скажу, там пусть сам решает.
![]() - Иглы, - говорю я.
- Иглы, - говорю я.
![]() - Что – иглы? – не понимает он.
- Что – иглы? – не понимает он.
![]() - Иглы на карнизах. Тонкие проволочные иглы. Ни одна птица на такой карниз не сядет. А если сядет, останется там навсегда.
- Иглы на карнизах. Тонкие проволочные иглы. Ни одна птица на такой карниз не сядет. А если сядет, останется там навсегда.
![]() Он смотрит на меня так, будто увидел впервые.
Он смотрит на меня так, будто увидел впервые.
![]() - Слушай, парень, ты вообще кто? Я молодых-то на своем веку навидался. Но чтоб вот догадаться птицам иглы подставлять – это просто впервые такое. Хоть один Божий храм есть у тебя? Как тебя звать-то?
- Слушай, парень, ты вообще кто? Я молодых-то на своем веку навидался. Но чтоб вот догадаться птицам иглы подставлять – это просто впервые такое. Хоть один Божий храм есть у тебя? Как тебя звать-то?
![]() Я жмурюсь от солнечного света и думаю, что я здесь только гость, а он имеет полное право кормить своих крыс и запирать воду. Лет через триста он и без меня сообразит, что к чему, а сейчас я вряд ли смогу ему объяснить. Вода – моя кровь и плоть. А когда крысы принесли мне последнюю эпидемию чумы, его еще на свете не было.
Я жмурюсь от солнечного света и думаю, что я здесь только гость, а он имеет полное право кормить своих крыс и запирать воду. Лет через триста он и без меня сообразит, что к чему, а сейчас я вряд ли смогу ему объяснить. Вода – моя кровь и плоть. А когда крысы принесли мне последнюю эпидемию чумы, его еще на свете не было.
![]() - Веццо, - отвечаю я, глядя на солнце. – Веццо-Высокая Вода.
- Веццо, - отвечаю я, глядя на солнце. – Веццо-Высокая Вода.